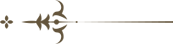 210
210 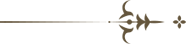 Вперед
Вперед В самом деле, среди дошедших до нас скудных остатков теоретических суждений литераторов той эпохи находим неоднократное выражение мыслей о подражании и заимствовании, не рассматриваемых ни как пагубный отказ поэта от своего художнического лица ни как литературное хищение. Приведу несколько примеров. Еще Тредиаковский в своем «Способе к сложению российских стихов» полагает мерилом достоинств своих элегий то, что в них находили «дух Овидиевых элегий», что было по его мнению «ласкательной и излишней милостью» по отношению к нему1; следовательно, сказать поэту, что его стихи похожи на стихи другого поэта, пусть прославленного, могло означать похвалу. Затем, говоря о жанрах, Тредиаковский, не имея возможности распространяться о каждом из них, «объявляет» имена «Авторов наиславнейших, которым надлежит подражать во всех сих родах выше помянутых Поэзий»; простейшим способом найти правильный путь в работе над данным жанром оказывается подражание. Учение Тредиаковского связано с построениями схоластических пиитик и риторик духовных школ. Сумароков высказался по вопросу о подражании достаточно отчетливо. Возражая против полемических обвинений Тредиаковского в неудачных заимствованиях у иностранных поэтов (в «Хорев»)2, он указывает, что заимствовал очень мало, а что стихов 5—6 заимствовал, то «укрывать не имел намерения, для того что то ни мало нестыдно» и сам Расин подражал Еврипиду и переводил его, «чего ему никто не поставит в слабость, да и ставить невозможно» (П. С. С. 2 X. 103). То же говорит он в другом месте, прибавляя: «Правда, я брал нечто, и для чего то не сделать по Русски, что на французском языке хорошо» ^Ь. стр. 82); к той же теме он возвращается в статье о французских трагедиях; так, указывая из Еврипида в Федре Расина, он говорит — «сие явление почти все переведено, хотя и весьма украшено: полезны таковые переводы» (П. С. С. IV. 331). Такой же точки зрения держится и Ф. А. Эмин; он считает, что «Имитация или подражание есть лучшая стихотворства добродетель» (Адская почта. 1769 стр. 272). Примечательны высказывания о подражании — Лукина, антагониста Сумарокова. В предисловии к комедии «Награжденное постоянство» изложена полемика его как сторонника «склонения на наши нравы» чужих комедий со сторонниками старых, цельных систем. Хотя здесь смысл полемики заключался в столкновении двух драматургических комедийных систем, сумароковской, выросшей на почве старых интермедий, театра итальянских комедиантов и м. б. отчасти Мольера, — и новой сис темой Лукина, отражавшей влияние французов середины XVIII века, эпохи начала слезной драмы, все же обе стороны в одинаковой мере принимают необходимость работы на основе того, что уже сделано в данном жанре; лишь источники указываются разные (и соответственно намечаются различные способы использования их). Лукин заявляет: «Заимствовать необходимо надлежит: мы на то рождены» (Предисловие к «Пустомеле»)3. В другом месте он говорит, что выполнению намерения написать комедию об игроке «препятствовало мне то, что не имел я еще образца перед собою. Я разумею под образцом комедию характерную в 5 действиях» (Предисл. к «Моту, любовью исправленному»). Аналогичные взгляды на подражание держались долго. Так, еще в 1784 году, в эпоху, когда эстетическая система середины века распадалась и уступала место новой, державинской, Д. И. Хвостов в послании к Княжнину, высказывая вскользь новую, м. б. еще нетвердую мысль о том, что «Заемны красоты — хвала родившу их; Творца не поведет чужой ко славе стих» и что «Богатый даром муж не ждет чужих подпор, Его душа ему родит красот собор», — в то же время отдает дань старым, привычным воззрениям; по-видимому, не замечая противоречия, он вслед за приведенными стихами пространно (ведь это — мысли и темы отстоявшиеся и, следовательно, легкие и ясные) говорит о подражании в духе эпохи Сумарокова (соч. 1817. II. 34—37). Еще Остолопов излагает учение о подражании совершенно так, как его понимали в середине XVIII столетия («Словарь древней и новой поэзии». II. 387—393). Указав на то, что талантливый подражатель исправляет все погрешности образца и берет у него только лучшее «в духе и слоге» и приведя примеры подражаний (Виргилий, Княжнин, Державин и др.), он продолжает: «Сих образцов достаточно, кажется, для того, чтобы оставить без всякого внимания упреки тех строгих людей, которые называют подражания или слабостию собственных дарований или рабством, уничтожающим собственные дарования»; далее идет решительная защита подражательности («предосудительны одни только подражания т. сказ, механические, т. е. такие, в которых встречаем не красоты оригинала, не дух автора, но единственно рабское последование его погрешностям»). В рассуждениях Осто- лопова недаром слышится полемический тон. Для его времени они непоправимо устарели. Но в середине XVIII века, даже еще в 80-х годах, они были вполне у места. В эту эпоху поэты, исповедуя теорию подражания подлинным образцам прекрасного, и на практике следовали ей. Они свободно черпали как отдельные мотивы и детали, так и схемы целых пьес у своих предшественников. Основой их творчества вообще была книга, прочитанный текст, готовая словесная конструкция. Между тем уже с начала XIX в. и м. б. еще раньше, в результате распространения и укрепления ощущения лично-творческого начала как основы всякого созидания и всякого искусства, эстетическое восприятие осложнилось особым оттенком; этот новый принцип оценки художественных произведений, входивший в состав художественного переживания как его неотъемлемый элемент, выражался в измерении степени оригинальности, самобытности, неповторимо личного тона поэтического произведения. Чужое, повторное, подражательное и, стало быть, не выражающее самобытного индивидуума или его эпохи, стало быть, нехарактерное, неподлинное, бледное, — оказалось плохим; поэт, дающий не свое в своих произведениях, — жалкий подражатель, писака, в конце концов — бездарность. Это своеобразное этико-эстетическое переживание ценности оригинального было чуждо додержавинской эпохе. Не стоит напоминать общеизвестных фактов беззастенчивых подражаний; их множество. Большие произведения строились нередко целиком на основе схемы, взятой у другого поэта. Так было, например, в трагедии: «Мартезия и Фалестра» Хераскова перекроена из «Ariane» Тома Корнеля, «Велесана» Ф. Козельского — из «Мегоре» Вольтера, «Владимир и Ярополк» Княжнина — почти целиком перевод- переделка «Andromaque» Расина и т. д. Примечательнее, без сомнения, то, что были подражания русским образцам, притом весьма близким хронологически; так, «Пламена» Хераскова (1765) построена на основе, взятой из «Семиры» Сумарокова (1751); Ломоносов берет для своих трагедий немало из трагедий Сумарокова4 и т. д. Во всех этих и других подобных случаях автор-подражатель берет у своего образца помимо понятия системы жанра некую схему, данный ряд элементов общей композиции; так, в трагедиях берется общая сюжетная схема, план развития интриги, сопровождаемый определенным порядком и строением сцен, строением ролей и т. д. Это было то, что подражатель считал выполненным достаточно хорошо в образце. При этом оставался, конечно, простор как для «исправления» того, что было заимствовано, так и для создания заново всех остальных элементов системы, всвою очередь менявших, иногда радикально, композиционным смысл заимствований. Если так было в крупных жанрах, то в мелких, где большая композиционная сжатость создавала особые условия, повышавшие значимость совпадений, система подражаний давала себя чувствовать еще сильнее. Мы имеем здесь случаи, когда целые пиесы как бы повторяются с некоторыми лишь изменениями; получаются как бы вторые редакции чужой пиесы. Здесь опять сказывается отрыв от автора-поэта и соотнесение лишь с жанром, объединяющим такие две «редакции», созданные различными авторами. Приведу несколько примеров. У Сумарокова читаем «Баллад» (Ежемес. соч. 1755. II. 147); похож на него анонимный «Баллад», помещенный в «Покоящемся трудолюбце»
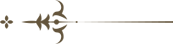 210
210 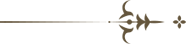 Вперед
Вперед