Содержание
Поэма недели: Осень в Таосе Д. Х. Лоуренса | Д. Х. Лоуренс
Д. Х. Лоуренс писал, что в Нью-Мексико «новая часть» его души «внезапно проснулась» и «старый мир уступил место новому». Он обнаружил, что в религии коренных американцев нет богов, потому что «все есть бог». Аналогичным образом Америка в образе Уолта Уитмена освободила его поэтический пейзаж.
Стихотворение этой недели «Осень в Таосе», кажется, происходит в реальном времени. Говорящий встречается во время верховой езды, и ритмы стихотворения позволяют нам ощутить маленькое, мускулистое, интимное движение пони «рысью-рысью» на контрастно необъятном просторе пейзажа. Повторения замедляют темп, действуя как поводья. Например, когда «осины осени» из первой строки тут же появляются во второй строке, повествование как бы останавливается и оглядывается. Лоуренс не бессознательный поэт, чьи таланты случаются случайно. Его суждение нигде не проявляется так очевидно, как в этих повторениях. Посмотрите на «пятнистый» в третьей строфе. Сначала мы видим отдаленно пятнистый эффект; затем говорящий дает понять, что крапчатость создается кедром и шестерней. Как только деревья попали в поле зрения, как ни с того ни с сего, из понятия «пестрый», появляется эта удивительная выдра. Слово действует как маленький визуальный мост.
Сначала мы видим отдаленно пятнистый эффект; затем говорящий дает понять, что крапчатость создается кедром и шестерней. Как только деревья попали в поле зрения, как ни с того ни с сего, из понятия «пестрый», появляется эта удивительная выдра. Слово действует как маленький визуальный мост.
Раньше осина и сосна образовывали полосы тигрицы, а серый шалфей плато — волчью шкуру. Сначала выдра кажется только своей гладкой внешностью, но это становится ясно из дальнейшего в стихотворении, когда говорящий с облегчением возвращается к «предгорьям, усеянным сосновыми рыбами» (любопытное, но эффектное отступление) и «Мимо усов выдры». «, что это текучее, «серебристое» существо олицетворяет еще одну вариацию ландшафта.
Выдра такая же свирепая, как и предыдущие существа, хотя и менее мохнатая. «Рыбий клык» предполагает тонкую длину зубов и, неизбежно, пронзенную рыбу. По сути, мы получаем взгляд рыбы на приближающегося хищника.
С появлением мифического ястреба Гора сам человек на пони становится мифическим. «Взгляните на меня, — говорит он по-библейски, — свободно бегущего меж склонов золотых/ Великих и блестящеперых ног…» На мгновение мы можем подумать о Христе верхом на осле, въезжающем в Иерусалим. Гор был египетским богом, представленным солнцем в виде крылатого диска, но Лоуренс, возможно, смешивает его с одетым в перья мексиканским богом солнца Уицилопочтли. Каким бы ни было его происхождение, эта птица получает королевское поэтическое обращение. Более скучный писатель мог бы выбрать «естественный» порядок слов в своем трио прилагательных: «великий, золотой, блестяще-перый…» Расположение Лоуренса, разделенное разрывом строки, искупает всю силу слов («золотой» , «великий»), которые являются почти поэтическими клише. Потускневшие прилагательные вдруг возвышаются и вспыхивают.
«Взгляните на меня, — говорит он по-библейски, — свободно бегущего меж склонов золотых/ Великих и блестящеперых ног…» На мгновение мы можем подумать о Христе верхом на осле, въезжающем в Иерусалим. Гор был египетским богом, представленным солнцем в виде крылатого диска, но Лоуренс, возможно, смешивает его с одетым в перья мексиканским богом солнца Уицилопочтли. Каким бы ни было его происхождение, эта птица получает королевское поэтическое обращение. Более скучный писатель мог бы выбрать «естественный» порядок слов в своем трио прилагательных: «великий, золотой, блестяще-перый…» Расположение Лоуренса, разделенное разрывом строки, искупает всю силу слов («золотой» , «великий»), которые являются почти поэтическими клише. Потускневшие прилагательные вдруг возвышаются и вспыхивают.
В этих движениях и позах есть сексуальность: всадник, оседланный Гором, или медленно двигающийся под соснами, похожими на «волосатое брюхо большого черного медведя». Они могут даже подразумевать разные состояния бытия. Согласно антидемократическому взгляду Лоуренса на общество, были люди-солнце, элита и низшие смертные, которых нужно было «бросить на службу». Возможно, здесь он разыгрывает переход между обоими состояниями: во всяком случае, говорящий «рад выйти» из медвежьего соснового леса и празднует свое освобождение свежим, залитым солнцем видением осин, которые «ложились одна на другую». «, напоминают ему о многослойных перьях ястребиного бога.
Согласно антидемократическому взгляду Лоуренса на общество, были люди-солнце, элита и низшие смертные, которых нужно было «бросить на службу». Возможно, здесь он разыгрывает переход между обоими состояниями: во всяком случае, говорящий «рад выйти» из медвежьего соснового леса и празднует свое освобождение свежим, залитым солнцем видением осин, которые «ложились одна на другую». «, напоминают ему о многослойных перьях ястребиного бога.
Оглядываясь назад, на «округлые склоны присевших Скалистых гор», высвобождается еще больше образов больших кошек, превращенных в метафоры. Возможно, говорящий немного нервничает из-за «леопардово-багровых склонов Америки», утешая себя, уверяя пони, что все эти хищные «клыки, когти, когти, клювы и ястребиные глаза / Сейчас бессильны». Это «только сейчас» подразумевает лишь временную передышку. Земля и воплощенная в ней чувственная жизненная сила восторжествуют над своими колонизаторами, включая художников.
«Важнейшее качество поэзии заключается в том, что она делает новое усилие внимания и «открывает» новый мир в пределах известного мира», — писал Д. Х. Лоуренс. Усилие внимания здесь также является усилием живописного воображения, и из двух он создал поразительно оригинальную пейзажную поэму. Существа в нем не должны проявляться с таким ярким, индивидуализированным присутствием различных зверей Птиц, Зверей и Цветов: даже выдра — это быстрый набросок. Но видение естественной интеграции между землей и этими подсознательно присутствующими существами не могло быть более живым. И, как это часто бывает в стихах о животных, часть очарования заключается в наблюдении за удивленным, серьезным, изумленным, глубоко нежным человеком, который наблюдает за животным. Среди существ этой поэмы есть и та маленькая человеческая фигурка на пони, не бог солнца, а английский поэтический гений, по-своему печатающий новые пути техники, которые расчистил перед собой американский гений Уолт Уитмен.
Х. Лоуренс. Усилие внимания здесь также является усилием живописного воображения, и из двух он создал поразительно оригинальную пейзажную поэму. Существа в нем не должны проявляться с таким ярким, индивидуализированным присутствием различных зверей Птиц, Зверей и Цветов: даже выдра — это быстрый набросок. Но видение естественной интеграции между землей и этими подсознательно присутствующими существами не могло быть более живым. И, как это часто бывает в стихах о животных, часть очарования заключается в наблюдении за удивленным, серьезным, изумленным, глубоко нежным человеком, который наблюдает за животным. Среди существ этой поэмы есть и та маленькая человеческая фигурка на пони, не бог солнца, а английский поэтический гений, по-своему печатающий новые пути техники, которые расчистил перед собой американский гений Уолт Уитмен.
Осень в Таосе
За округлыми склонами Скалистых гор осины осени,
Осины осени,
Как желтые волосы тигрицы, усеянные соснами.
Внизу, на ковре у моего очага в пустыне, шалфей плоскогорья,
Пепельно-серая шкура
Волка, пушистая и ровная, шкура дикого волка.
Рысь-рысь к предгорьям пестрым, кедрово-пестрым и пернатым;
Вы когда-нибудь видели выдру?
Серебристобокий, клыкастый, свиреполицый, усатый, крапчатый.
Когда я мчусь на своем маленьком пони через осины каньона,
Смотри, как я рысью спокойно бегаю между склонами золотых
Великих и блестящих оперенных ног ястреба Гора;
Золотой ястреб Гора
Верхом надо мной.
Но под соснами
Я иду медленно
Как под мохнатым брюхом большого черного медведя.
Рад выйти и оглянуться
На желтых остроконечных осинах, лежащих друг на друге, как перья,
Перо за пером на груди великого и золотого
Ястреб, как я говорю о Горе.
Приятно находиться в шалфее и сосновых предгорьях, усеянных рыбой,
Мимо усов выдры,
На меху волчьей шкуры, что устилает равнину.
А потом оглянуться на округлые склоны присевших Скалистых гор.
Тигрица пестрая с осиной,
Забрызганная ягуаром, пума-желтая, леопардово-багровая склоны Америки.
Сделай большие глаза, маленький пони,
На всех этих шкурах диких зверей;
Они не причинят тебе вреда.
Клыки, когти, когти, клювы и ястребиные глаза
Только что потеряли нервы.
Так что успокойся.
New & Selected Poems – The Waywiser Press
New & Selected Poems
Sunday Times, 7 июля 2002
и эссе о его удовольствии от опасностей скалолазания и покера. Но в конце концов он вернулся к поэзии, наслаждаясь рисками того, что может быть, как он однажды заявил о Сильвии Плат, «искусством убийства». Во многих стихах здесь он совершает авантюру.
Они расположены, грубо говоря, в обратном хронологическом порядке, и лучше всего начинать чтение с конца книги и двигаться в обратном порядке. Альварес мало что сохранил из своих работ 1950-х годов, когда напряженность между реализацией своего таланта критика и необходимостью писать самому породила «Катарсис»: «Это нежность, которую вы чувствуете, которую вы знаете / Возможно, у вас была нежность, по которой вы скучаете / Тем не менее в маске, которую вы носите, ваш язык может идти / Восхищенно к темам, которые публика не угадает. » Там эхо голоса Уильяма Эмпсона было действительно громким; но запутанная странная захватывающая страсть старшего поэта отсутствовала. Что ведущие критики, такие как И.А. Ричардс и Р. П. Блэкмур (и, в частности, Эмпсон) создали замечательные стихи, что, безусловно, поощряло первые подобные попытки. Но стихи Альвареса действительно начинают работать только тогда, когда он отказывается от надуманного метафизического остроумия и университетского преподавания: напрямую обращаясь к личным темам любви, несчастья, рождения, смерти и мечтаний в своих произведениях и посвятив себя независимому существованию.
» Там эхо голоса Уильяма Эмпсона было действительно громким; но запутанная странная захватывающая страсть старшего поэта отсутствовала. Что ведущие критики, такие как И.А. Ричардс и Р. П. Блэкмур (и, в частности, Эмпсон) создали замечательные стихи, что, безусловно, поощряло первые подобные попытки. Но стихи Альвареса действительно начинают работать только тогда, когда он отказывается от надуманного метафизического остроумия и университетского преподавания: напрямую обращаясь к личным темам любви, несчастья, рождения, смерти и мечтаний в своих произведениях и посвятив себя независимому существованию.
«Кладбище в Нью-Мексико» (1958), таким образом, выглядит как поворотный момент, трогательное воспоминание о его умершем деде и чествование его маленького сына, что предполагает, что поэзия может быть тем, что он теперь чувствует себя обязанным писать. Следующие стихи, явно связанные со слишком поспешным браком, принесшим конфликт, унизительную боль и, в конечном счете, попытку самоубийства, ближе всего подходят к конфессиональным крайностям американских поэтов, которыми он восхищался Плат, Джона Берримана и Роберта Лоуэлла.
«Пробуждение» датируется тем же годом (1959), что и книга Лоуэлла « Life Studies », содержащая известное стихотворение о невзгодах брачного ложа «Мужчина и жена». Альварес избегает любых попыток такого же грубого, уязвимого красноречия. В «Картинной галерее» тревожные образы на картинах подталкивают его к прерывистым строчкам о собственном горе. Оба эти стихотворения прекрасно сбалансированы, звучат правдоподобно и скупы на личные подробности. В то время он был строгим поэтическим критиком Observer, и, как и покойный Ян Гамильтон, его преемник на этом посту, он, кажется, чувствовал опасность выставлять свои работы на всеобщее обозрение. Но также, как и Гамильтон, он придает сдержанности неоспоримый эмоциональный вес.
Тогда немного проясняется. Загадочная последовательность из семи стихотворений, датируемых 1974-1975 годами, кажется, о старой привязанности, вновь открытой, но не подлежащей возобновлению. Настроение серьезное, но все более расслабленное; местами бодро смиренно, как в «Осени»: «Деревья / Распускают свои летние вещи, шепча: «Кто / Наплевать, наплевать, наплевать, наплевать?»»
Наконец, после долгого перерыва, появляются новые стихи о семейном счастье в начале этой книги. «Зимнее утро» имеет последнюю строчку прямо из Эмпсона, блеск его «Черники» явно оставлен Тедом Хьюзом, а «Высокое погружение» воспроизводит любимый образ риска, пришедший из детства. Так звучат старые отголоски. Но «Русалка» и «Шелк» — восхитительные стихи о позднем занятии любовью, а «Ночной разговор» — о хороших снах, а не о кошмарах. Адреналин, все еще поднимающийся после жизни, полной физических и эмоциональных действий, производит поэзию странной невинности. Радостное искусство? — Алан Браунджон
«Зимнее утро» имеет последнюю строчку прямо из Эмпсона, блеск его «Черники» явно оставлен Тедом Хьюзом, а «Высокое погружение» воспроизводит любимый образ риска, пришедший из детства. Так звучат старые отголоски. Но «Русалка» и «Шелк» — восхитительные стихи о позднем занятии любовью, а «Ночной разговор» — о хороших снах, а не о кошмарах. Адреналин, все еще поднимающийся после жизни, полной физических и эмоциональных действий, производит поэзию странной невинности. Радостное искусство? — Алан Браунджон
Рецензии на
Новые и избранные стихотворения
Поэзия Лондон , весна 2003
«Скудный и неприукрашенный язык [Альвареса] часто черпает силу из другого джазового вида импровизационной техники – коротких стаккато против каждой фразы. . Это не поэзия, предназначенная для того, чтобы вспоминать что-либо в спокойствии, и она лучше всего подходит для работы с противоречивыми эмоциями, страхом и тревогой, темной реальностью смерти. Некоторые стихотворения выполнены в стиле современной готики с призраками, образами сновидений и повышенным эмоциональным накалом на каждом шагу. Все эти элементы собраны воедино в третьем разделе этой книги, который прослеживает упадок отношений с почти невыносимой «наготой», хотя и с любопытным чувством артистизма, которое всегда держит читателя по эту сторону исповедальной ложи. Такие стихи, как «Ночная музыка», «Пробуждение» и «Охота», — это ужасные и ужасные вещи, но поэзия настоящей силы… Новым стихам… не хватает суеты и энергии прежних… но лучше всего компенсировать это китсианством. оценка чувственных возможностей мира и человеческой любви… Работа Альвареса, в долгосрочной перспективе, о выживании, и, возможно, счастье не является продуктивной музой, но его лучшая работа очень хороша, и я поддерживаю гордое хвастовство Waywiser. о преимуществах того, чтобы снова сделать его доступным». – Мартин Распятие
Все эти элементы собраны воедино в третьем разделе этой книги, который прослеживает упадок отношений с почти невыносимой «наготой», хотя и с любопытным чувством артистизма, которое всегда держит читателя по эту сторону исповедальной ложи. Такие стихи, как «Ночная музыка», «Пробуждение» и «Охота», — это ужасные и ужасные вещи, но поэзия настоящей силы… Новым стихам… не хватает суеты и энергии прежних… но лучше всего компенсировать это китсианством. оценка чувственных возможностей мира и человеческой любви… Работа Альвареса, в долгосрочной перспективе, о выживании, и, возможно, счастье не является продуктивной музой, но его лучшая работа очень хороша, и я поддерживаю гордое хвастовство Waywiser. о преимуществах того, чтобы снова сделать его доступным». – Мартин Распятие
World Literature Today, июль-сентябрь 2003
«… Альварес — непревзойденный мастер, движимый лирическим импульсом, в котором разреженность структуры предложения сочетается с прямой, простой, часто односложной лексикой, как в «Сейчас зуб и шкура / Рашпили с жизнью, как кремень на труте». Как и у Ларкина, часть его мастерства заключается в том, что он избегает предсказуемых ямбов за счет смещения ударений и неожиданных завязок, таких как «Та же голова на моей груди / Шевелится», или часто стаккато инверсии порядка слов: «Бледный, как мертвых. Как мертвый / Хрупкий. Неясный, как город / Теперь туман снова сгущается». Правда, это может стать манерностью. Иногда строки кажутся слишком застенчиво лапидарными, слишком изящно вытянутыми в античной манере, так что навязчивая элегантность «Ибо пропало прекрасное лето, и пропали птицы» подрывает наше чувство эмоциональной вовлеченности. Против этого, однако, мы должны противопоставить трогательную простоту начальных строк «Кладбища в Нью-Мексико», написанных в память о дедушке поэта: «Мертвые тихонько шевелятся, звонят в полдень. / Почва на них слишком легка, и ветер / Продувает землю, как если бы земля была соснами». Простота, одно из самых неуловимых качеств любого искусства, никогда не бывает легким, но со времен его ранних стихов… Альварес, кажется, стер себя сам: девять «Новых стихотворений» сбросили часть его всепроникающей меланхолии и наслаждаются осязаемым миром с сочной точностью образов.
Как и у Ларкина, часть его мастерства заключается в том, что он избегает предсказуемых ямбов за счет смещения ударений и неожиданных завязок, таких как «Та же голова на моей груди / Шевелится», или часто стаккато инверсии порядка слов: «Бледный, как мертвых. Как мертвый / Хрупкий. Неясный, как город / Теперь туман снова сгущается». Правда, это может стать манерностью. Иногда строки кажутся слишком застенчиво лапидарными, слишком изящно вытянутыми в античной манере, так что навязчивая элегантность «Ибо пропало прекрасное лето, и пропали птицы» подрывает наше чувство эмоциональной вовлеченности. Против этого, однако, мы должны противопоставить трогательную простоту начальных строк «Кладбища в Нью-Мексико», написанных в память о дедушке поэта: «Мертвые тихонько шевелятся, звонят в полдень. / Почва на них слишком легка, и ветер / Продувает землю, как если бы земля была соснами». Простота, одно из самых неуловимых качеств любого искусства, никогда не бывает легким, но со времен его ранних стихов… Альварес, кажется, стер себя сам: девять «Новых стихотворений» сбросили часть его всепроникающей меланхолии и наслаждаются осязаемым миром с сочной точностью образов. . Таким образом, «Черника» заключает: «Они на вкус похожи на цветы / В съедобной вселенной: / Всплеск цвета, / Прохладная кожа на языке, / Взрывы удовольствия». В то время как многие поэты-мужчины превосходно изображают погоню или завоевание, немногие преуспевают так же, как Альварес в «High Dive», в передаче определенных регистров любви, ее легкости и чистой привязанности. образы с большей разговорной легкостью предполагают, что в будущем могут быть еще лучшие вещи ». – Кристофер Левенсон
. Таким образом, «Черника» заключает: «Они на вкус похожи на цветы / В съедобной вселенной: / Всплеск цвета, / Прохладная кожа на языке, / Взрывы удовольствия». В то время как многие поэты-мужчины превосходно изображают погоню или завоевание, немногие преуспевают так же, как Альварес в «High Dive», в передаче определенных регистров любви, ее легкости и чистой привязанности. образы с большей разговорной легкостью предполагают, что в будущем могут быть еще лучшие вещи ». – Кристофер Левенсон
Танцующая Энн
Ты врываешься, снова двадцатилетняя,
Толстовка и джинсы, глаза закрыты, кошачья улыбка,
Самодовольная, погруженная в себя, покачивая бедрами,
Переплетая свои замысловатые шаги
сложный ковер. Один только взгляд
У меня это делает. Ты североамериканская девушка из колледжа
, идущая на свидание,
Dazzler в стиле 50-х — отличные ноги, милая задница, милая улыбка.
Это Сатчмо играет
Ваша молодость громко и ясно возвращается. Вы бросаете
Вы бросаете
Твоя седая красивая голова. Вы говорите: «Давай, потанцуем».
The Waywiser Press
Кладбище в Нью-Мексико
Альфреду Альваресу, умершему в 1957 году
Мягко шевелятся мертвецы, зовите, весь день.
Почва лежит на них слишком легко, и ветер
дует сквозь землю, как если бы земля была соснами.
Моя родная кровь в тяжелой северной смерти
Спит с дождем и глиной И темными, густыми кустами,
Где дух борется за движение, как за дыхание.
Но среди этих сосен кресты растут, как папоротники,
Хрупкое дерево прорастает и пестрые, стройные камни,
И ветер движется, сквозь тени движется солнце.
Нежный свет, воздух, дыханье
Соединяет скорбящих с умершими в один легкий сон:
Я смотрю, как смотрел бы на спящего слепого,
И помню день, когда скрипучие веревки соскользнули
Тяжелое тело моего деда в его могилу,
И дождь лил, когда мы перегребали землю на крышке.
Глыбы упали окончательно и распластались, как дуновение ветра
Пока скорбящие терпеливо сгорбились от дождя.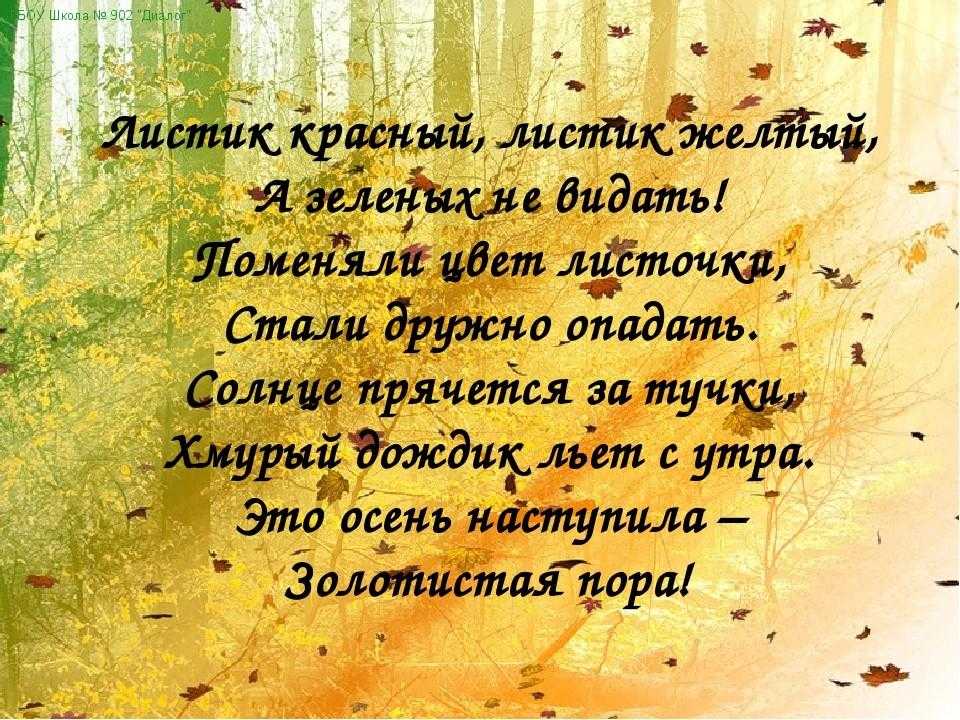
Были молитвы на иврите, которых я не понимал.
На кладбище Виллесден, уважаемый, богатый, склонный,
Непреклонный и отдаленный, он ждет своего часа.
А над его головой высечено мое имя.
Снова и снова дело начинается:
Мой сын по ночам теперь беспокоит нас своими криками
В темноте над его кроваткой склоняется одно и то же лицо.
И даже здесь в этот ясный полдень
Мертвые носятся, как ветер среди сосен;
Они касаются моего рта, они вьются вдоль моего позвоночника.
Они ждут меня. Почему они не называют мое имя?
The Waywiser Press
Отрывки
Anne Dancing
Ты врываешься, снова двадцать лет,
Толстовка и джинсы, глаза закрыты, кошачья улыбка,
Переплетая свои замысловатые шаги
Замысловатый ковер. Самый простой взгляд
У меня это делает. Ты североамериканская студентка
из колледжа на свидании,
Dazzler в стиле 50-х — отличные ноги, милая задница, милая улыбка.
Это Сатчмо играет
Ваша молодость громко и ясно возвращается. Ты бросаешь
Свою седую прелестную голову. Ты говоришь: «Давай, потанцуем».
The Waywiser Press
Кладбище в Нью-Мексико
Альфреду Альваресу, умершему в 1957 году
Мягко шевелятся мертвецы, зовите, весь день.
Земля на них слишком легкая и ветер
Дует сквозь землю, как если бы земля была соснами.
Моя родная кровь в тяжелой северной смерти
Спит с дождем и глиной И темными, густыми кустами,
Где дух борется за движение, как за дыхание.
Но среди этих сосен кресты растут, как папоротники,
Хрупкое дерево прорастает и пестрые, стройные камни,
И ветер движется, сквозь тени движется солнце.
Нежный свет, воздух, дыхание
Соединяет скорбящих с умершими в один легкий сон:
Я смотрю, как смотрел бы на спящего слепого,
И помню тот день, когда скрипучие веревки соскользнули
Тяжелое тело моего деда в могилу,
И дождь лил, когда мы лопатой землю накрывали крышку.
