Содержание
Все стихи Якова Островского
- Александр Сергеич Пушкин
- Бессмысленные поезда
- Во тьме…
- Гость
- Две медузы повисли
- Именины
- Иуда
- Матрёшка
- Меншиков
- На рассвете.
 ..
.. - Ниточка
- Одиночество
- Поминки
- Раковина
- Смерть юнкера
- Снег
- Старик
- У развилки
Александр Сергеич Пушкин
Александр Сергеич Пушкин – настоящий барин,
Настоящий дворянин и большой поэт,
Александр Сергеич Пушкин был хороший парень,
И подобного другого не было и нет.
Александр Сергеич Пушкин был хороших правил:
Он ушёл, детей оставив, славу и вдову.
Что детей, вдову и славу, он тома оставил
И таким явился к Богу, как на рандеву.
Так – во фраке и цилиндре – встал он перед Богом,
Перед Господом самим, чтоб держать ответ.
И спросил его Господь, вежливо, но строго:
– Как там жизнь, скажи, любезный?
– Суета сует.
Всё на свете суета, да куда уж хуже:
Карнавал и мелодрама – страсти из чернил.
Да к тому ж ещё служи, называйся мужем…
Боже, Господи прости, что ты сочинил?!
Александр Сергеич Пушкин. Что ему осталось?
Отродясь такого парня не было и нет.
И такому-то ему что светило? Старость…
А конец он сам придумал – сказано, поэт.
30.04.91
к списку
Бессмысленные поезда
Человек ждёт поезда.
Сутки.
Вторые.
Третьи.
Поезда всё нету – где-то затор.
Там женщина.
Она должна его встретить.
А его нет до сих пор.
То он возмущался, что поезд всё не приходит,
Ссорился с вокзальным служащим,
Даже переходил в крик.
А потом — ничего, прижился вроде,
Привык.
И пока уборщица шваркает тряпкой,
Бормоча под нос себе: «Экий стыд!»,
Он стелет себе газеты –
на полу под утро зябко –
И спит.
Просыпаясь, он наблюдает,
как ласточки лепят гнездо
на высоком вокзальном своде,
И однажды обрадовался,
Увидев маленькую головку,
выглянувшую из гнезда…
А там – женщина.
Она всё ходит и ходит –
Всё встречает и встречает
бессмысленные поезда.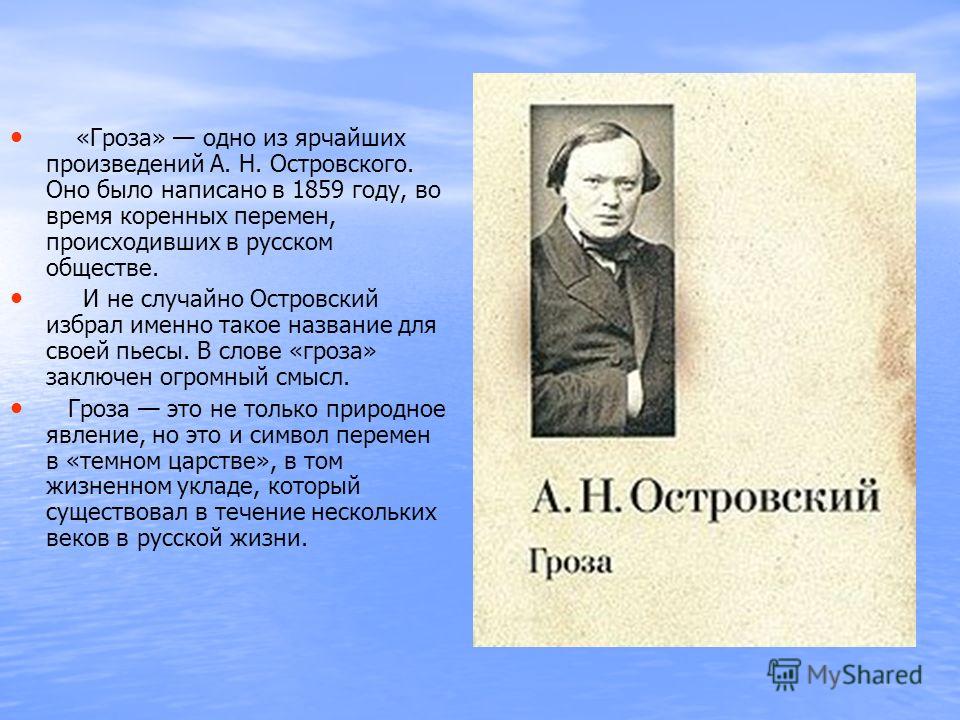
90-е годы
к списку
Во тьме…
Моталась лодка на воде.
Во тьме. На привязи причала.
И было всё это – начало.
И это всё вело к беде.
Как жаль, что всё это потом
Поймётся и потом прочтётся –
Когда беда уже начнётся…
И будет вовсе не о том.
3.06.81
к списку
Гость
– А у белой лошади был жеребёнок.
Белый…
В избе было тепло,
Так хорошо тепло.
И раскачивалась старуха
И странную песню пела.
А у печи сидел гость
(метелью или бедой сюда его занесло).
Он сидел и оттаивал.
Молчаливый такой, городской.
И бабка его отпаивала
Какой-то травой настойной.
И было ему тепло,
Тепло и покойно,
Как будто в бабкиных травах
Настаивался покой.
А когда уходил
(беда его гнала или дело)
И осталась изба
Проталиной в белом снегу,
Вдруг забилось, как заяц,
стреляный на бегу:
– А у белой лошади
был жеребёнок.
Белый…
60-е годы
к списку
* * *
Две медузы повисли
на ржавых якорных лапах.
Палуба пахла сандалом,
солью,
смолой
и небом.
И человек, как сомнамбула,
свернул на этот запах…
Рука с коготками розовыми
аккуратно вписала – «не был».
«Не был».
Трюм задохнулся
под тяжестью бочек и вьюков.
В конторе ключи со скрежетом
проворачивались в замках.
А он всё стоял у борта
и щурился близоруко.
И тонкая серая папка
подрагивала в руках.
Море было зелёным.
И небо было зелёным.
И не было моря и неба.
И время одно текло.
Пахло пенькой смолёной.
Пахло ветром солёным.
Море дробило о берег
бутылочное стекло.
И только когда капитан
сказал по-извозчичьи: «Трогай!»
И редкие капли стёр
со лба волосатой рукой,
Человек, не оглядываясь,
пошёл обычной дорогой,
Стуча каблуками туфель,
как деревянной клюкой.
04.60
к списку
Именины
Как принято, как дедами завещано,
Пригласили гостей, накупили водки,
Поставили на стол пирог со свечками –
38 вокруг, одну посерёдке.
Гости сидят,
Пьют, едят.
Тридцать девять свечей
В пироге чадят.
За белым подоконником
Темнеет вечер.
Горят свечи тоненькие –
Недолгие свечи …
Разрезали пирог
На тридцать девять частей:
Каждому из гостей –
Свой кусок …
Дай нам, Боже,
Грядущий день.
Не густо. А всё же
Всё как у людей.
19.05.71
к списку
Иуда
Что ты делаешь здесь?
Разве эта земля – твоя?
Разве твоя эта зима,
проржавевшая дождями и прикидывающаяся летом?
Я мучительно хочу вспомнить, кто я,
Но память отказывает мне в этом.
У меня русский сын и русская жена.
И нет у меня ни жены, ни сына.
А кожа моя обожжена
Глинистым солнцем Иерусалима.
Мне говорят:
– Ты вернулся. Ты просто отвык.
Но сердце моё молчит
– это не мой город.
У здешних людей
чуть-чуть горловой язык,
Как будто им всё время
чуть-чуть сдавливают горло.
Я несу по его холмам своё тщедушное тело,
высохшее от книг.
Иногда мне кажется,
что я – закладка, выпавшая оттуда.
Иногда мне кажется, что я – Христос,
призванный пострадать за ближних своих.
Но люди почему-то
называют меня Иудой.
29.04.91
к списку
Матрёшка
Подарили человеку матрёшку –
Не Бог весть какой подарок.
Простовата матрёшка немножко,
И узор пожалуй что ярок.
Ну, дарёному-то в зубы не смотрят,
Не в игре играть против правил.
Окрестил её хозяин Мотрей.
На комод её хозяин поставил.
Тихо медленные годы проходят,
Над хозяином плывут и над куклой.
И стоит себе матрёшка на комоде.
С ребятишками внутри.
Круууглая…
4.05.71
к списку
Меншиков
Сии птенцы гнезда Петрова
В пременах жребия земного…
День стоял бело-розовый.
Век в подворье смотрел.
А Меншиков жил в Берёзове.
И старел.
Ходили по двору куры.
Иногда неслись.
А дочери его, дуры,
Даром паслись.
Сидел он на лавке длинной.
Медленно пил с утра.
И зарастал щетиной.
И забывал Петра.
Где-то ещё копошились страсти,
Разевали рты, как голодные птенцы…
А ему вспоминались всё больше сласти:
Копеечные пряники, леденцы.
Проходила баба с набухшей грудью,
С высоким, налившимся животом…
Вот он опустится. И всё ещё будет.
И всё ещё будет.
Всё ещё будет, мин хер… Потом…
31.03.81
к списку
На рассвете…
На рассвете, когда уснут сторожа,
Головы свесив на стол,
Пёс подойдёт к тебе, дрожа,
И уткнётся носом в подол.
И будете вы вдвоём у реки.
И скажешь ты: «Ничего»…
И ты не сможешь поднять руки,
Чтобы погладить его.
8.08.80
к списку
Ниточка
Вначале появилась пыль.
Ей не помешали ни замок, ни наглухо
закрытые окна…
Она лежала на вещах тонкой серой плёнкой.
Пока её было мало.
Потом,
когда её стало больше,
она свалялась в похожие на шерсть волокна,
Как будто комната заново творила кошку,
которая в той толчее куда-то пропала.
Потом с люстры сползла ниточка
и стала тянуться к паркету.
Каждый раз, когда хлопала дверь в парадном,
каждый раз, когда это случалось,
Она вздрагивала и долго ещё качалась
В застоявшемся воздухе без малейшего ветра.
А ещё. С тех пор, как он умер,
комната стала ловить чужие звуки:
Голоса, шорохи за стеной –
дребедень, всякую малость.
Даже когда где-то внизу водопроводчик
возился в открытом люке…
С каждым прожитым днём что-то в ней менялось.
И пришло время
(день прошёл, или дни, или месяцы),
Когда по стене пробежал первый таракан.
Он был голенастый и очень весёлый.
Он осмотрелся и, видно, решил – поместимся.
И тогда вовсю повалили рыжие новосёлы.
Ни щёлочки пустой, ни трещины
Они в ней не оставили.
Они расползались по ней, как из квашни
расползается тесто.
Они расползались по ней,
шурша надкрыльями и скрипя суставами.
И ни для чего человеческого в ней
не осталось места.
А ниточка… А ниточка
Всё сползала с люстры.
Всё качалась ниточка,
качалась, как живая…
И всё это бывает,
когда в доме долго пусто.
А потому и не было,
что так не бывает.
70-е годы
к списку
Одиночество
Дверь запиралась на ключ,
на два оборота –
Просто хотелось верить,
что кто-то может войти.
Кот – разжиревший бездельник
зубами давил зевоту.
Облезшая стрелка часов ползла к десяти.
Вещи имели запах, тонкий и слабый, –
Запах духов, мыла, матовой кожи.
«От вас на двести шагов разит настоящей бабой».
Кто это сказал? Кто же?
Ещё не сняв пальто, ты вглядываешься в осколок стекла:
Разбежались морщинки у глаз.
Куда они бегут?
Постойте. Постойте! Постой…
Юность не оглядывается.
Юность ушла.
Остаются зеркала,
которые никогда не лгут.
Остаются руки,
которым некуда деться.
Беспомощные и усталые.
Их, действительно, некуда деть.
Остаётся на столике,
вместо фотографии детства,
Очень серьёзный и важный,
плюшевый, с оторванным ухом, медведь.
Остаётся
(если в памяти очень порыться)
Шорох жёстких ладоней,
запах крепкого табака…
Это могло быть иначе.
«Тридцать? Вам уже тридцать?!
Я бы не дал вам тридцать».
Это теперь.
Тоска.
Ты медленно раздеваешься.
Ты лицом прижимаешься к раме.
Спокойная, как всегда.
Холодная, как всегда.
Ты стоишь на ветру,
там, рядом с мокрыми фонарями,
И в мягких комнатных туфлях
вздрагивает вода.
10.1959
к списку
Поминки
Говорили много фраз.
Пили много вина.
А у женщины вместо глаз
Была боль одна.
И давило, как горб:
– Замаяли, замели.
Так стучат о гроб
Комья земли.
…Рот сухой облизав,
Когда уходили прочь,
Сказала, не глядя в глаза:
– Куда тебе… в ночь?
И он, как столб забил,
Сказал: – Стели, что ль…
Он баб таких любил,
В которых боль.
30.07.64
к списку
Раковина
…Когда-то она лежала на берегу,
белом от зноя.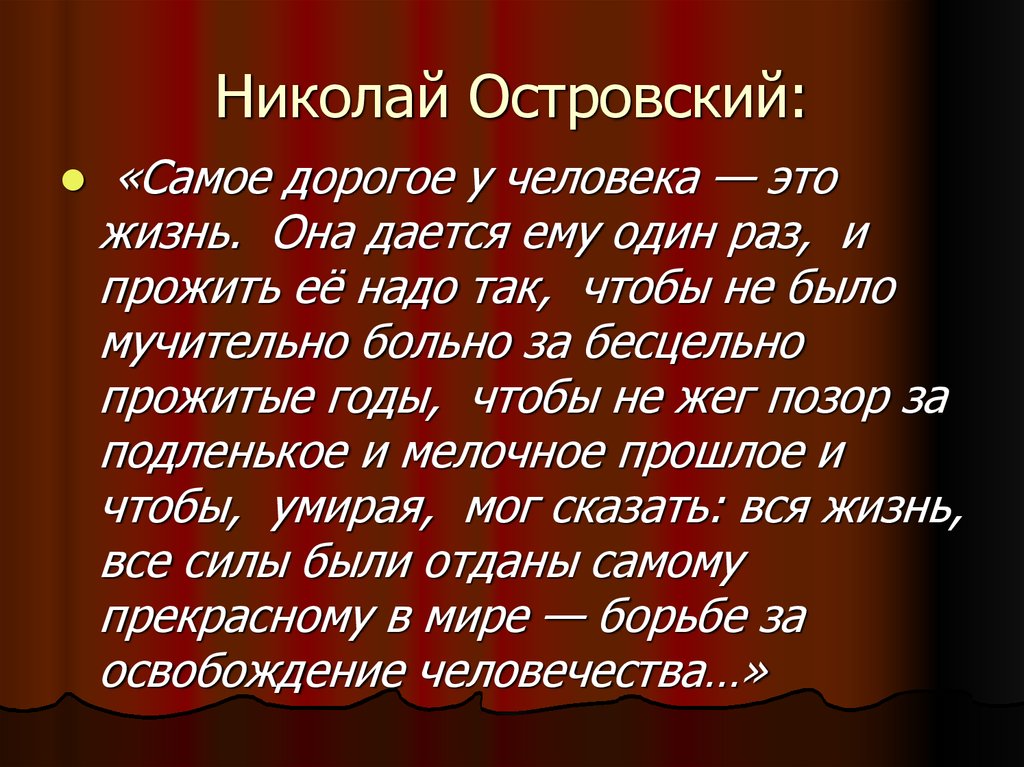
В мириады жёлтых шорохов
кутал песок её,
И зелёной толщей воды
казалось ей небо сквозное,
Иногда удивительно близкое,
иногда непонятно высокое.
Иногда… Только это кажется –
море ушло давно.
Она лежала на берегу
среди окурков,
пижам
и бесконечных историй.
Отрешённая от всего,
познавшая только одно,
Она слушала море.
Осенью дождь бродил босиком по лужам,
Наполненным небом серым
и чайками до краёв.
Тогда она старалась
зарыться в песок поглубже.
И думала о своём.
Приходила зима.
Песок
становился похожим на соль,
И мягкие хлопья падали,
пропахшие морем и солью…
Она лежала наедине
с радостью,
похожей на боль,
И очень похожей на счастье
болью.
Одинокой,
жилось ей совсем не сладко –
Слишком много ушло,
слишком мало осталось…
Иногда она замечала на панцире новые складки
И думала про себя:
старость.
А потом… Потом её кто-то поднял,
Приспособил под пепельницу
по практичной мужской привычке.
…Приходили какие-то люди,
спорили об искусстве день ото дня
И совали в неё окурки
и обгоревшие спички.
Только что ей до этого,
если каждый шорох и шаг,
И обычный уличный шум,
и шарканье ног в коридоре
Она понимала по-своему.
И билось в её ушах
Вечное, как мечта,
неизбежное, как любовь,
море.
14.03.1959
к списку
Смерть юнкера
Суд идёт революционный…
М. Голодный
И тот, чьим именем судья
Судил его ещё недавно,
Встал перед ним в шинели рваной,
Затвор
спокойно
отводя.
– Постой! На что ему кольцо?
А мы пока живём с тобою…
И он увидел над собою
Простое, в оспинах, лицо.
И вспомнил он тот перстень тонкий,
Щепоть, крестящую мундир. ..
..
И запрокинувшийся мир
Неспешно
перешёл
в потёмки.
09.70
к списку
Снег
Когда на землю падал снег,
Являлось ощущенье боли.
Какими-то тенями, что ли,
Был полон падающий снег.
И одинокий человек,
Прижавшийся к оконной раме,
Не снег, совсем не этот снег
Так долго провожал глазами.
Челнок причаливал к кустам.
Кричала выпь, вспорхнув с ночлега…
И что-то промелькнуло там –
Какое-то подобье снега.
24.03.89
к списку
Старик
И время крышу прохудило.
И свод небесный печь прожгла.
И жизнь давно уже прошла,
А всё никак не проходила.
А сам старик… Ну что он мог:
Слезясь глазами, верить в чудо –
Что будет день и вспомнит Бог
И призовёт его оттуда.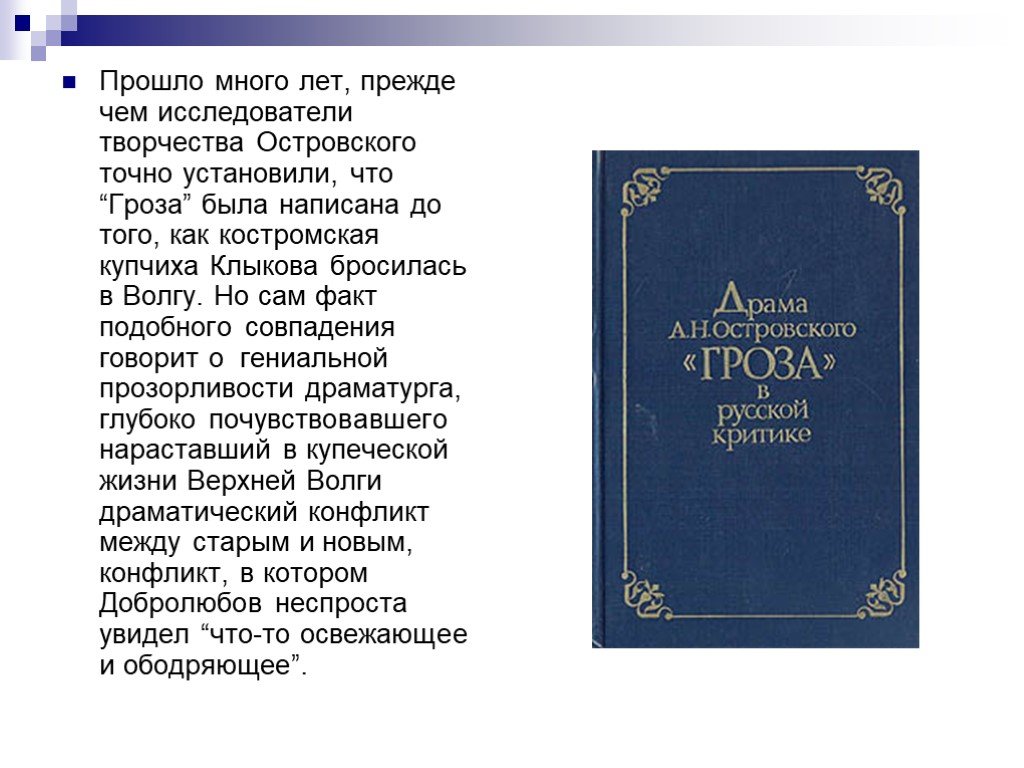
И сядут рядом – он и Бог
Под перистыми облаками.
И скажет тот: «А что я мог?»,
Вздохнёт и разведёт руками.
13.02.89
к списку
У развилки
Куда нам деться с болями своими?
Куда нам деться?!
…И вдруг тебя шелковица обнимет
Из детства.
Из-за забора.
Повторяет имя,
Ворованная, просит вороваться…
А ты ни вырваться, ни там остаться…
Куда нам деться с болями своими?
Куда нам деться от своей печали,
Когда случайный снег на плечи ляжет,
Пуховой рукавичкой душу свяжет
И нитку выдернет.
И оборвёт в начале.
И будет медлить время у порога.
И встанет день и сердце приподнимет.
И ляжет белой скатертью дорога…
Да вот друзья…
Куда нам деться с ними?
23.07.78
к списку
Все стихи Семёна Островского
- Биография
- Творчество
- Комментарии
- Все стихи
- Автобус
- Звёздные ёжики
- Мороз и Воробей
- Незабудки
- Неунывающий Чик-Чирик
- Подснежник проснулся
- Пора прощаться
- Сказка
- Сказка на стекле
- Смехотворение
- Снег хрустит
- Снега тихи
- Соль на раны
- Стали хрусткими дорожки
- Шнурки ручейков
Автобус
Часы били полночь. ..
..
Студёной зимой
Автобус
в гараж возвращался,
домой.
Снаружи рекорд –
минус тридцать и три.
Но было тепло на душе –
он внутри
сквозь ночь
пассажиров дыхания вёз…
Напрасно бахвалился силой мороз.
к списку
Звёздные ёжики
Смотрит
на звёзды,
задумавшись,
Ёжик.
Звёзды
на ёжиков
очень похожи
Острые небо пронзают иголки.
Видно,
и на небе
водятся
волки.
к списку
Мороз и Воробей
Мороз
недаром
вышел из себя.
Не может
заморозить
Воробья.
Взъерошенный,
похожий
на репей,
как на пружинках
скачет
Воробей.
к списку
Незабудки
Приказано ветру:
– Подснежник задуть!
Подснежник – мятежник,
задуй и забудь!
Задул.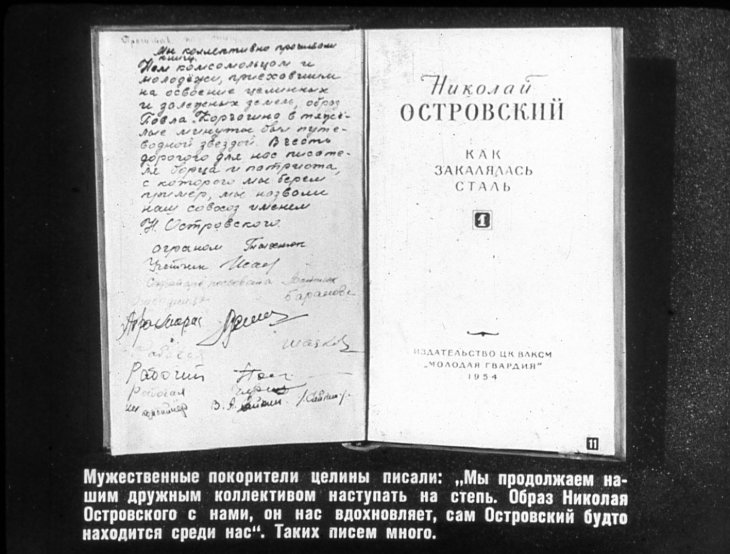 ..
..
Не прошло и минутки –
цветут на лугу
незабудки.
к списку
Неунывающий Чик-Чирик
Даже в стужу
Воробьишка
носит
летнее пальтишко.
Зря старается
мороз
довести
его
до слёз.
Чик-Чирика
греют
шутки –
он
обходится
без шубки.
Воробьиные меха
ХИ-ХИ-ХИ
да
ХА-ХА-ХА.
к списку
Подснежник проснулся
Капелью
на заре разбужен, –
– Наверх! –
в снегу пробив
оконце,
Подснежник жмурится.
Снаружи –
не ожидал –
так много солнца!
к списку
Пора прощаться
Признался снег сохатому в бору:
– Пора прощаться.
Отпуск я беру.
Весна не терпит промедленья, Лось.
Подснежник прострелил
меня
насквозь.
к списку
Сказка
Снег блестит…
И Ель
свою макушку
к звёздочке небесной
тянет
в высь.
Новогодней ёлочной игрушкой
месяц,
как на ниточке,
повис.
к списку
Сказка на стекле
О том,
что любит он цветы,
наверно,
догадался ты,
когда однажды
в феврале
возникла
сказка на стекле.
Ему
заказан путь
на Юг,
где пальмы нежатся
в тепле –
ведь создан он
для стуж и вьюг…
Но на оконном на стекле
рисует он,
старик Мороз,
в который раз
охапки роз.
к списку
Смехотворение
Мы
друг друга
звонким смехом
поздравляем
с первым снегом.
И чем снег идёт
сильней,
тем становится
смешней.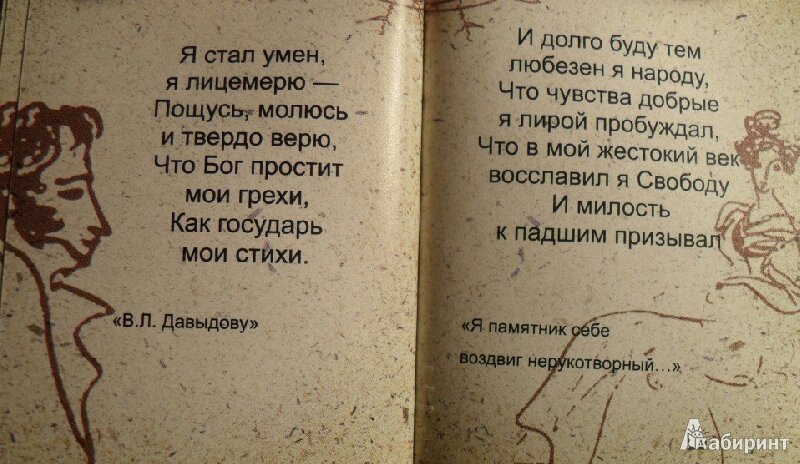
Можешь в друга бросить
снегом –
друг тебе ответит
смехом,
потому что все снежинки
превращаются
в смешинки.
И на землю
не снега
опустились,
а смеха.
И стоит
не снеговик,
а весёлый смеховик.
Словно он
не рукотворный,
а какой-то
смехотворный.
По дороге
в детский сад
попали мы
под снегопад.
Под снегопад попали –
от смеха
в снег
упали.
Праздничное настроение –
я пишу
СМЕХОТВОРЕНИЕ.
к списку
Снег хрустит
Скачет
в поле
Зайка грустный.
Снег хрустит,
как лист капустный.
В голове
одна капуста.
В животе,
однако,
пусто.
к списку
Снега тихи
Зима нас встретила
снегами.
Мы зиму встретили
стихами.
Земля в снегу…
Снега тихи…
Им слушать нравится
стихи.
к списку
Соль на раны
Зима прощается с Москвой.
Снег исчезает с мостовой.
Весна,
входя всё больше в роль,
зиме на раны сыплет соль.
к списку
Стали хрусткими дорожки
Почему с приходом стужи
стали хрусткими дорожки?
Потому что ночью лужи
стёкла вставили в окошки.
к списку
Шнурки ручейков
Земля из-под снега открылась, черна –
шнурки ручейков развязала весна.
к списку
Световой конус — УТА МАКУРА (СТИХИ ПОДУШКИ)
| Вивиан ОСТРОВСКИЙ 1994-1995 / цвет / звук / 1S / 20′ 00 |
В 10 веке в Японии Сэй Сёнагон, фрейлина императрицы, писала о том, что происходило при японском дворе. Опасаясь мести, она спрятала эти секретные записи на подушке. UTA MAKURA — это также сборник юмористических наблюдений за современной Японией, от водопадов до торговых центров, от детей в кимоно до свежих макимоно, от древней глицинии до подростковой истерии, от домашней лапши до живых нарисованных пуделей.
Опасаясь мести, она спрятала эти секретные записи на подушке. UTA MAKURA — это также сборник юмористических наблюдений за современной Японией, от водопадов до торговых центров, от детей в кимоно до свежих макимоно, от древней глицинии до подростковой истерии, от домашней лапши до живых нарисованных пуделей.
| формат распространения | 16мм |
|---|---|
| экран | 1,37 — Стандарт (один экран) |
| скорость | 24 кадра в секунду |
| звук | оптический звук |
| арендная плата | 79,00 € |
| формат распространения | 16мм |
|---|---|
| экран | 1,37 — Стандарт (один экран) |
| скорость | 24 кадра в секунду |
| звук | оптический звук |
| перевод | Французский (Встроенные субтитры) |
| арендная плата | 79,00 € |
| формат распространения | DCP на USB-накопителе (SMPTE 2K) |
|---|---|
| экран | 1,37 — Стандарт (один экран) |
| скорость | 24 кадра в секунду |
| звук | звук |
| перевод | Французский (Встроенные субтитры) |
| арендная плата | 79,00 € |
| формат распространения | Цифровой файл на USB-накопителе (HD) |
|---|---|
| экран | 1,37 — Стандарт (один экран) |
| скорость | 24 кадра в секунду |
| звук | звук |
| перевод | Французский (Встроенные субтитры) |
| арендная плата | 79,00 € |
Voyeur Voyant: Портрет Луи-Фердинанда Селина, Эрика Островски
Ordure from Chaos
Voyeur Voyant. Портрет Луи-Фердинанда Селина.
Портрет Луи-Фердинанда Селина.
Эрика Островски.
Рэндом Хаус. 398 стр. 10 долларов США.
За год до своей смерти в 1961 году Селин заявил об одном достижении: ему удалось заставить всех согласиться с тем, что «я самый большой ублюдок из ныне живущих!» Слово, умеренно переведенное как «ублюдок» в сочувственной биографии Эрики Островски, первой в английском языке, вызывает ассоциации с грязью и экскрементами ( ordure ), но тогда параноидальный скатологический сленг Селин часто практически непереводим. Он, как обычно, преувеличивал, ибо у него были свои апологеты, в том числе покойный Роже Нимьер, который с характерной для него наглостью весело предложил его в качестве кандидата на Нобелевскую премию. Однако, если многие плохо относились к Селину, следует признать, что он долгое время работал мазохистски, чтобы достичь этой цели.
Видите, какая я паршивая дворняжка, предлагает Селин, но никто другой не лучше, так почему же я выбираю всех пинков? Он жалуется, что некоторые известные литераторы, обедавшие и обедавшие с немцами во время оккупации, стали уважаемыми членами Французской академии. Другие исполняли свои произведения с разрешения Германии, как, например, неблагодарный Сартр, взявший из единственной пьесы Селин эпиграф «Дневник Антуана Рокантена» . Но Сартр, которого он грубо высмеивает под именем Тартр, не раз отваживался обвинять его в том, что он находится на содержании у нацистов. Селин не любил, когда другие пускали в ход оружие желчной злобы, которым он сам так часто баловался.
Другие исполняли свои произведения с разрешения Германии, как, например, неблагодарный Сартр, взявший из единственной пьесы Селин эпиграф «Дневник Антуана Рокантена» . Но Сартр, которого он грубо высмеивает под именем Тартр, не раз отваживался обвинять его в том, что он находится на содержании у нацистов. Селин не любил, когда другие пускали в ход оружие желчной злобы, которым он сам так часто баловался.
Трудность написания биографии или «портрета» Селина заключается в том, что его собственные романы в значительной степени автобиографичны, ни полностью вымышлены, ни вполне «реальны», а его манера неподражаема. Вскоре он отказался от притворства, что его рассказчиком был кто угодно, но не он сам, Луи-Фердинанд Дестуш, сын ссорящихся парижских родителей из низшего среднего класса (его отец работал в страховой компании, а мать держала магазин кружев). Борющиеся, хотя и подлые бедняки являются для него вечными жертвами эгоистичных богачей, и эта точка зрения на короткое время сблизила его с левыми. Одного вида его матери, стоящей на коленях и предлагающей образцы своих кружев богатой буржуазной паре, которая незаметно стащила носовой платок, наверняка было бы достаточно, чтобы отметить его на всю жизнь. Его прогресс от полного нигилизма его первой и лучшей книги, Journey to the End of Night (1932), симпатизирующий правым радикалам, предлагает типичную французскую историю первой половины века.
Одного вида его матери, стоящей на коленях и предлагающей образцы своих кружев богатой буржуазной паре, которая незаметно стащила носовой платок, наверняка было бы достаточно, чтобы отметить его на всю жизнь. Его прогресс от полного нигилизма его первой и лучшей книги, Journey to the End of Night (1932), симпатизирующий правым радикалам, предлагает типичную французскую историю первой половины века.
Получив образование в Германии и Англии, готовясь к коммерческой карьере, он поступил на военную службу в 1912 году. Во Фландрии в 1914 году он был тяжело ранен во время опасной миссии, на которую вызвался добровольцем, и был награжден Военной медалью. Больше не пригодный для военной службы, он отправился в Камерун, и ему не понравилось то, что он увидел в колониальной эксплуатации. Он изучал медицину, стал врачом, но, несмотря на свое медицинское образование и многочисленные путешествия (он побывал в Советском Союзе и Соединенных Штатах), оставался узколобым, с готовностью проглотить крайние теории надвигающейся катастрофы и гибели и с презрением относиться к «интеллектуализм» и идеи.
Его опыт ужасов Первой мировой войны заставил его решительно противостоять «апокалиптическим крестовым походам», одновременно поощряя его ностальгию по апокалипсису. Так в 30-х годах он выступал за франко-германский союз, и, не будучи членом ни одной из фашистских группировок, принял расизм гитлеровского штампа (вера в поддельные Протоколы сионских мудрецов , в селекцию на защищать белую расу, в евреях как принцип упадка, в черной опасности и желтой опасности).
Последний год Второй мировой войны застал его в Германии, поражение которой он предвидел и где мог в полной мере удовлетворить свои апокалиптические наклонности. Его заключительная трилогия романов включает кошмарную картину последних дней правительства Виши и его сторонников в Зигмарингене, где он служил врачом. Одна из самых примечательных сцен — дико гротескная встреча Лаваля и Селин, в которой первый вспоминает, что писатель (которому не нравился «расовый тип» политика) назвал его евреем и предателем.
Это интервью имело место, или оно имело место в форме, описанной в романе? Кто знает? Как отличить мощное видение Селин, одновременно ясное и галлюцинаторное, от простых прозаических фактов? Эрика Островски (которая уже опубликовала критическое исследование Селин) берет в качестве эпиграфа собственные слова романистки: «Биография. . . это то, что человек изобретает». Консультируясь с его родственниками и друзьями, она приняла селинский романистический подход, перемещаясь назад и вперед во времени, как будто желая добавить еще один том к канону. Судя по аннотации (поскольку в ней нет пояснительного предисловия), она считает, что с таким анархичным писателем, как Селин, не следует обращаться обычным прямолинейным образом. Тем не менее мало кто из писателей более остро нуждается в хладнокровной и беспристрастной оценке и изображении, хотя немногие сделали эту цель более трудной для достижения.
Ибо Селин делает то, что всегда собирался сделать: он вонзается в горло, как острая кость. Он представляет невыносимую и неразрешимую проблему современного раскола между литературным талантом высокого порядка и гуманными ценностями. Как предположительно искушенные исследователи литературы, мы не знаем, что с этим делать, потому что — со времен Стендаля и Бодлера — мы были воспитаны на вере в то, что истинное искусство связано только с подлинностью, честностью, риском, независимо от того, к чему это может привести. : наркотики, преступность, самоубийство, гибель других или себя или того и другого, чем хуже, тем лучше.
Он представляет невыносимую и неразрешимую проблему современного раскола между литературным талантом высокого порядка и гуманными ценностями. Как предположительно искушенные исследователи литературы, мы не знаем, что с этим делать, потому что — со времен Стендаля и Бодлера — мы были воспитаны на вере в то, что истинное искусство связано только с подлинностью, честностью, риском, независимо от того, к чему это может привести. : наркотики, преступность, самоубийство, гибель других или себя или того и другого, чем хуже, тем лучше.
Чем дальше они ведут — к самоуничтожению или всеобщей мерзости, — тем больше доказательство подлинности писателя и художественного мученичества. Селин озвучивает этот романтический поиск, когда говорит: «Возможно, это то, что человек ищет на протяжении всей жизни, не что иное, как величайшее из возможных страданий, чтобы стать самим собой перед смертью». Пришло время признать этот вид романтизма для trompe-l’oeil , но мы все еще ослеплены героическим элементом отчаянного самосожжения ради самореализации.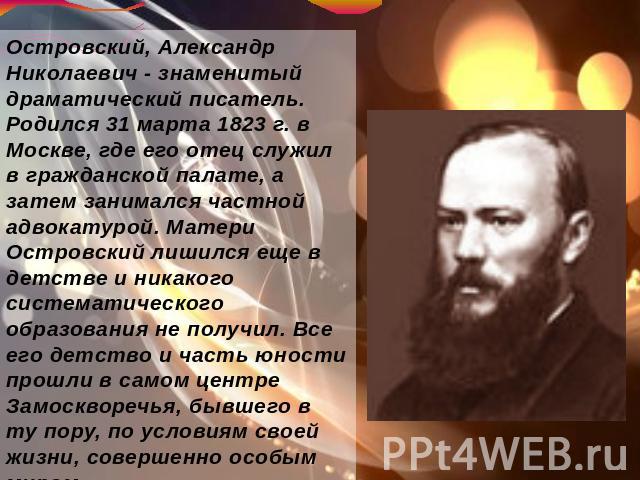
_____________
Попытка выяснить, почему автор Смерть в рассрочку пустил в ход свои яростные антисемитские рассуждения, далеко не уйдет. Возможно, он усвоил антисемитизм от своего отца, которого можно встретить в ругательствах против евреев и масонов. В разное время он приводил разные доводы: что его любовница, американская танцовщица, была уничтожена еврейским судьей; что его книга с нападками на коммунизм после визита в Советский Союз вызвала неприязнь коммунистов и евреев и лишила его работы в клинике; и так далее. В своей книге «Action Francaise» Ойген Вебер предполагает, что она возникла из-за того, что балет доктора был отклонен Жаном Заем, евреем, который был министром образования в правительстве Народного фронта. Селин обладал средневековым складом ума: ему нужен был принцип зла, чтобы иметь возможность оправдать свое свирепое негодование и вызвать в воображении собственную панику по поводу состояния современного мира.
Было бы неверным называть памфлетом этот обширный том Bagatelles pour un Massacre , опубликованный в 1937 году. Леон Доде, сам немалый антисемитский полемист, ободряюще писал в 1938 году: «. . . эта книга — ДЕЙСТВИЕ». Художник Вламинк в ужасе воскликнул: «Это погром!!» и назвал это приглашением к очередной Варфоломеевской резне. Не довольствуясь этой и другими работами подобного характера, Селин написал статью, в которой активно поощрял преследования во время оккупации, в то время как его самого постоянно цитировали и хвалили в прессе.
Леон Доде, сам немалый антисемитский полемист, ободряюще писал в 1938 году: «. . . эта книга — ДЕЙСТВИЕ». Художник Вламинк в ужасе воскликнул: «Это погром!!» и назвал это приглашением к очередной Варфоломеевской резне. Не довольствуясь этой и другими работами подобного характера, Селин написал статью, в которой активно поощрял преследования во время оккупации, в то время как его самого постоянно цитировали и хвалили в прессе.
Один литератор в 1938 году имел безрассудство предположить, что Bagatelles нельзя оценивать, не оставляя в стороне его значение, и после этого пришел к выводу, что это шедевр. Более поздний поклонник Доминик де Ру в 1968 году утверждал, что Селин не имела в виду это; что «такая бесконечно нежная чувствительность никогда не допустила бы ни малейшего намека на расовое преследование»; что, напротив, сам писатель из-за своих послевоенных страданий был евреем, козлом отпущения, — точка зрения, которая получает все большее распространение. Если так определить всех тех, кто считает себя уникальными жертвами необъяснимой ненависти, как это делал Селин, то этот термин станет еще более растяжимым и бессмысленным.
Несомненно, возмущенные и возмутительные вопли Селина протеста против ужасов войны, против эксплуатации, против семьи и всех существующих священных флагов и респектабельных идеалов делают черный юмор его наследников, Джозефа Хеллера, Брюса Джея Фридмана или Филипа Рота , похоже, столько холодного чая. Нельзя отрицать потенциал оригинальной модели с привидениями смерти.
Но чего ему больше всего не хватает, так это чувства человеческого достоинства. За редкими исключениями, такими как любвеобильная американская проститутка Молли, которая заставляет его стыдиться того, что он осудил человечество ниже, чем оно есть, человек — мусор, мешок гнили, ожидающий смерти. «Мне самой не пришла в голову великая человеческая идея», — говорит Фердинанд-Бардаму, всегда склонный жалеть животных больше, чем людей. Такое отношение идет намного дальше, чем ясное осознание доктором состояния человека. В нем есть что-то общее с ужасом, отвращением и ужасом ухмыляющегося средневекового пляски смерти, когда в своей жадности, зоофилии и глупости все беспорядочно попадают в пасть Зверя.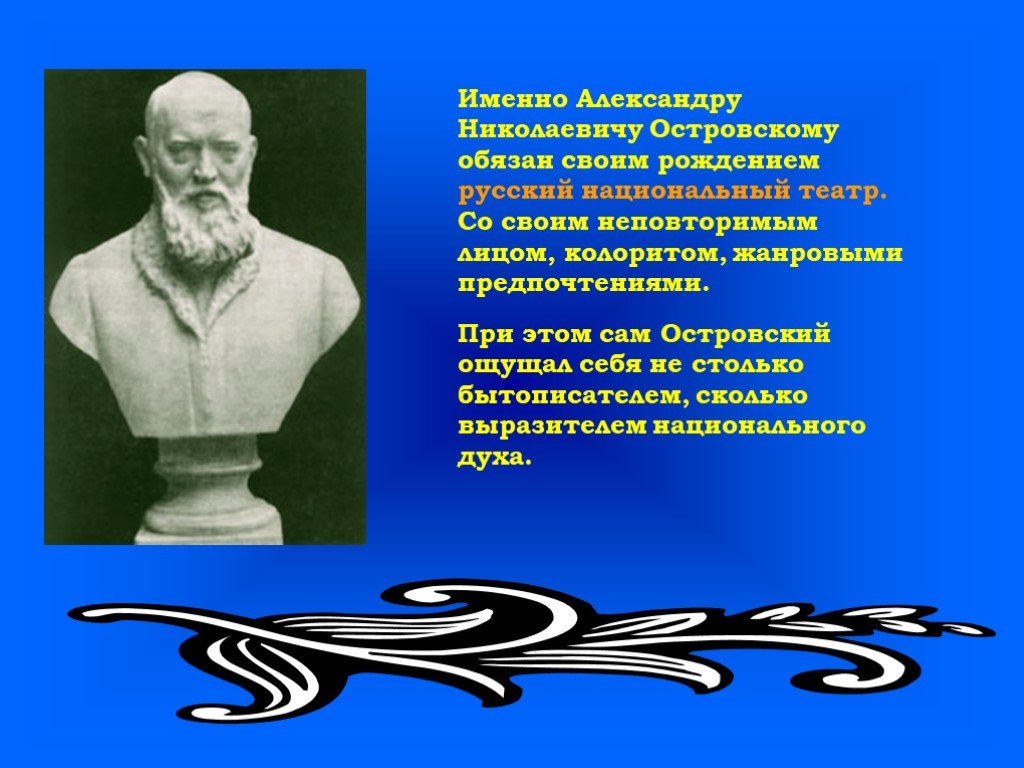 Селин не перестает радоваться и содрогаться от апокалиптического видения приближающегося конца.
Селин не перестает радоваться и содрогаться от апокалиптического видения приближающегося конца.
Для него письмо — это поток, форма выделения. Если он иногда настаивает на том, что его призвание — медицина, а не литература, то и медицину он называет «экскрементами». Он жаждет довести все до конца, в том числе и слово: может быть, когда все будет сказано, наступит мир, — устало предполагает он. Как указывает Эрика Островски, он произнес предостережение от скрытой опасности слов, а затем не взвесил свои слова и не последовал собственному совету.
Сила слова Селина часто накладывает роковые чары на тех, кто пишет о нем. Эрика Островская не исключение, иногда даже имитируя бессвязные эллиптические предложения мастера и отмечая три точки. О его первой жене она пишет в манере, предположительно призванной пробудить натянутый эротизм писателя, но больше напоминающей менее возвышенную популярную американскую модель. («Прилив горячей плоти потряс ее, а затем быстро отступил. Каждый толчок сочетался с угрозой внезапного побега»).
