Содержание
Стихи классиков литературы для детей : Барто, Маршак, Чуковский…
Волк и семеро козлят — русская народная сказка
Сказка рассказывает про злого волка, который изменил голос, пробрался в дом козы и съел маленьких козлят. Но мама-коза сумеет спасти своих детей и избавиться от волка. Волк и семеро козлят читать Жила-была…
Лиса и козел — русская народная сказка
Сказка о том, как лиса случайно в колодец попала. Сидит, выбраться не может, проходит мимо козел, а лиса этим и воспользовалась! Лиса и козел читать Бежала лиса, на ворон зазевалась — и…
Скорый гонец — русская народная сказка
Сказка рассказывает о том, как однажды старый отец и его три сына расчистили болота и построили мост калиновый. Отправлял сыновей старик под мост, чтобы слушать о чем прохожие говорят: добро или худо…
Волшебная дудочка — русская народная сказка
Сказка о том, как мачеха и сводная сестра изжили со свету бедную девушку.
 Но девушка не умерла, а превратилась в волшебную дудочку и грустной песней рассказала страннику о случившейся беде… (в пересказе…
Но девушка не умерла, а превратилась в волшебную дудочку и грустной песней рассказала страннику о случившейся беде… (в пересказе…
Телефон — Носов Н.Н.
Интересный и познавательный рассказ про двух друзей, который купили два игрушечных телефона для переговоров друг с другом. Да только Мишка решил разобрать свой аппарат и посмотреть, как он устроен. А собрать, как…
Живая шляпа — Носов Н.Н.
Известная история про двух друзей и котенка, на которого с комода упала шляпа. Мальчишки сначала подумали, что шляпа ожила и очень испугались. Но вскоре секрет шляпы был открыт… Рассказ Живая шляпа читать…
Тук-тук-тук — Носов Н.Н.
Рассказ о трех приятелях, которые приехали в пионерлагерь раньше отряда, чтобы подготовить помещение. Все было прекрасно до тех пор, как пришла пора ложиться спать.
 Послышались странные стуки в дверь, которые сильно напугали…
Послышались странные стуки в дверь, которые сильно напугали…Метро — Носов Н.Н.
Рассказ о двух братьях, которые приехали с мамой в Москву к тете в гости. Когда взрослые ушли из дома, то мальчики решили тоже посмотреть город и покататься на метро. Да вот только…
Совушка — русская народная песенка
Ах, ты, Совушка-сова, Ты большая голова! Ты на дереве сидела, Головою ты вертела, Во траву свалилася, В яму покатилася! (Илл. Ю.Васнецова, Ладушки, изд. Росмэн, 2002)
Кораблик (сборник Игрушки) — Агния Барто
Матросская шапка, Верёвка в руке, Тяну я кораблик По быстрой реке. И скачут лягушки За мной по пятам, И просят меня: — Прокати, капитан! (Изд. Астрель)
Кошка и курочка — русская народная песенка
Кошка на окошке Рубашку шьёт, Курочка в сапожках Избушку метёт.
 (Илл. Ю.Васнецова, Ладушки, изд. Росмэн, 2002)
(Илл. Ю.Васнецова, Ладушки, изд. Росмэн, 2002)Федорино горе — Чуковский К.И.
Известное произведение о неряшливой старушке и сбежавшей посуде. Бабушка Федора не жалела тарелок и чашек, била и не мыла их, не чистила кастрюли и сковородки. И посуда ушла от Федоры в лес.…
Самуил Маршак — Стихи » Страница 3 » Онлайн книги всех жанров читать бесплатно
Цветная осень — вечер года…
Цветная осень — вечер года
Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.
Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с Вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.
Москва: Художественная литература, 1977. Библиотека всемирной литературы. Серия третья. Редакторы А. Краковская, Ю. Розенблюм.
Исчезнет мир в тот самый час…
Исчезнет мир в тот самый час,
Когда исчезну я,
Как он угас для ваших глаз,
Ушедшие друзья.
Не станет солнца и луны,
Поблекнут все цветы.
Не будет даже тишины,
Не станет темноты.
Нет, будет мир существовать,
И пусть меня в нем нет,
Но я успел весь мир обнять,
Все миллионы лет.
Я думал, чувствовал, я жил
И все, что мог, постиг,
И этим право заслужил
На свой бессмертный миг.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Словарь
Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать, век заживать чужой…»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.
С.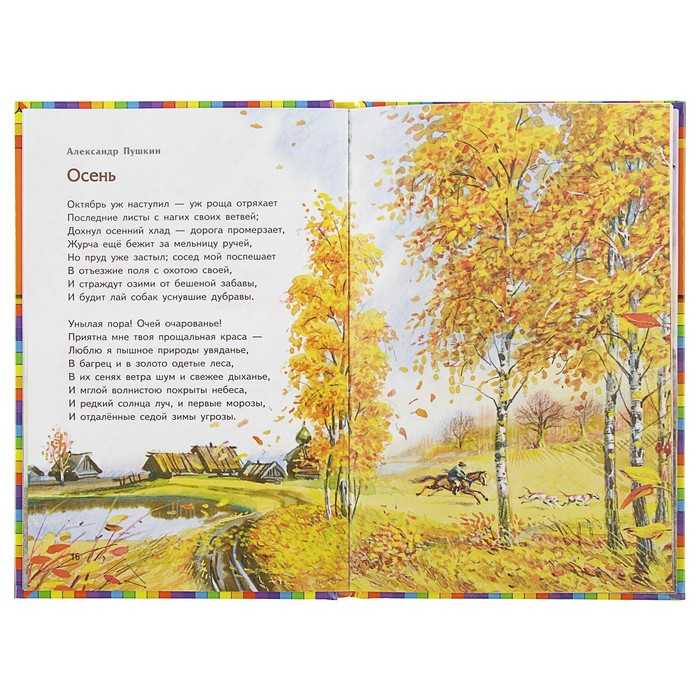 Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
О том, как хороша природа…
О том, как хороша природа,
Не часто говорит народ
Под этой синью небосвода,
Над этой бледной синью вод.
Не о закате, не о зыби,
Что серебрится вдалеке,
Народ беседует о рыбе,
О сплаве леса по реке.
Но, глядя с берега крутого
На розовеющую гладь,
Порой одно он скажет слово,
И это слово — «Благодать!».
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Когда, изведав трудности ученья…
Когда, изведав трудности ученья,
Мы начинаем складывать слова
И понимать, что есть у них значенье
«Вода», «огонь», «старик», «олень», «трава»,
По-детски мы удивлены и рады
Тому, что буквы созданы не зря,
И первые рассказы нам награда
За первые страницы букваря.
Но часто жизнь бывает к нам сурова:
Иному век случается прожить,
А он не может значащее слово
Из пережитых горестей сложить.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Мы знаем: время растяжимо…
Мы знаем: время растяжимо.
Оно зависит от того,
Какого рода содержимым
Вы наполняете его.
Бывают у него застои,
А иногда оно течет
Ненагруженное, пустое,
Часов и дней напрасный счет.
Пусть равномерны промежутки,
Что разделяют наши сутки,
Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки
И очень краткие часы.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Как поработала зима!.
Как поработала зима!
Какая ровная кайма,
Не нарушая очертаний,
Легла на кровли стройных зданий.
Вокруг белеющих прудов
Кусты в пушистых полушубках.
И проволока проводов
Таится в белоснежных трубках.
Снежинки падали с небес
В таком случайном беспорядке,
А улеглись постелью гладкой
И строго окаймили лес.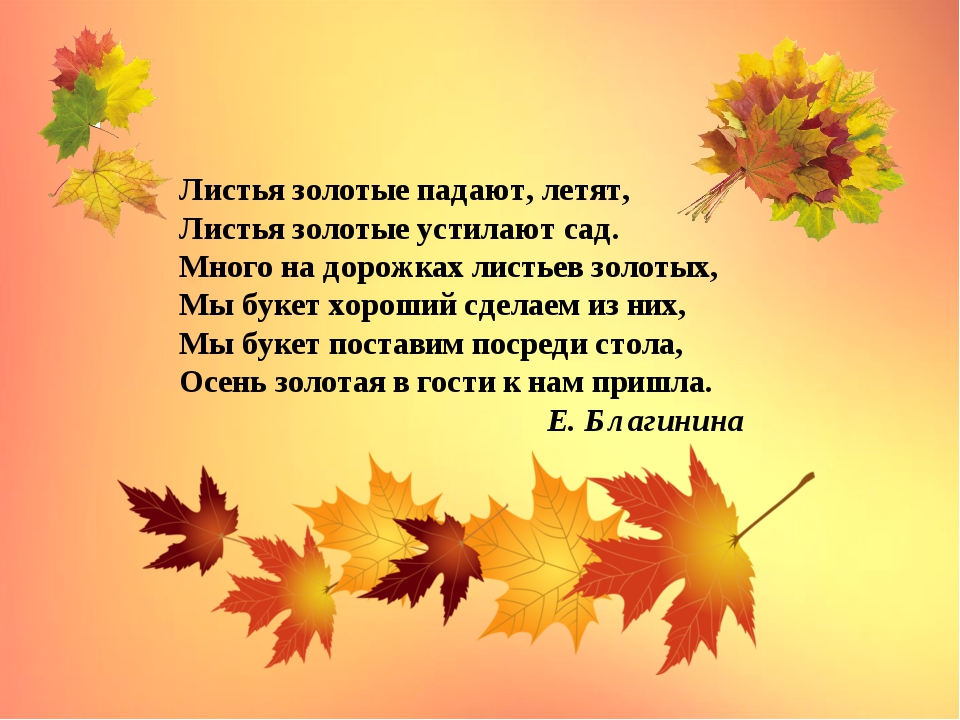
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Когда вы долго слушаете споры…
Когда вы долго слушаете споры
О старых рифмах и созвучьях новых,
О вольных и классических размерах,
Приятно вдруг услышать за окном
Живую речь без рифмы и размера,
Простую речь: «А скоро будет дождь!»
Слова, что бегло произнес прохожий,
Не меж собой рифмуются, а с правдой
С дождем, который скоро прошумит.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
На всех часах вы можете прочесть…
На всех часах вы можете прочесть
Слова простые истины глубокой:
Теряя время, мы теряем честь.
А совесть остается после срока.
Она живет в душе не по часам.
Раскаянье всегда приходит поздно.
А честь на час указывает нам
Протянутой рукою — стрелкой грозной.
Чтоб наша совесть не казнила нас,
Не потеряйте краткий этот час.
Пускай, как стрелки в полдень, будут вместе
Веленья нашей совести и чести!
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
И поступь и голос у времени тише…
И поступь и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов.
Шуршат и работают тайно, как мыши,
Колесики наших часов.
Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь — на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет.
Секундная стрелка бежит что есть мочи
Путем неуклонным своим.
Так поезд несется просторами ночи,
Пока мы за шторами спим.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Нет, нелегко в порядок привести…
Нет, нелегко в порядок привести
Ночное незаполненное время.
Не обкатать его, не утрясти
С пустотами и впадинами всеми.
Не перейти его, не обойти,
А без него грядущее закрыто…
Но вот доходим до конца пути,
До утренней зари — и ночь забыта.
О, как теперь ничтожен, как далек
Пустой ночного времени комок!
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Порой часы обманывают нас…
Порой часы обманывают нас,
Чтоб нам жилось на свете безмятежней.
Они опять покажут тот же час,
И верится, что час вернулся прежний.
Обманчив дней и лет круговорот:
Опять приходит тот же день недели,
И тот же месяц снова настает
Как будто он вернулся в самом деле.
Известно нам, что час невозвратим,
Что нет ни дням, ни месяцам возврата.
Но круг календаря и циферблата
Мешает нам понять, что мы летим.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Быстро дни недели пролетели…
Быстро дни недели пролетели,
Протекли меж пальцев, как вода,
Потому что есть среди недели
Хитрое колесико — Среда.
Понедельник, Вторник очень много
Нам сулят, — неделя молода.
А в Четверг она уж у порога.
Поворотный день ее — Среда.
Есть колеса дня, колеса ночи.
Потому и годы так летят.
Помни же, что путь у нас короче
Тех путей, что намечает взгляд.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Нас петухи будили каждый день…
Нас петухи будили каждый день
Охрипшими спросонья голосами.
Была нам стрелкой солнечная тень,
И солнце было нашими часами.
Лениво время, как песок, текло,
Но вот его пленили наши предки,
Нашли в нем лад, и меру, и число.
С тех пор оно живет в часах, как в клетке.
Строжайший счет часов, минут, секунд
Поручен наблюдателям ученым.
И механизмы, вделанные в грунт,
Часам рабочим служат эталоном.
Часы нам измеряют труд и сон,
Определяют встречи и разлуки.
Для нас часов спокойный, мерный звон
То мирные, то боевые звуки.
Над миром ночь безмолвная царит.
Пустеет понемногу мостовая.
И только время с нами говорит,
Свои часы на башне отбивая.
С. Маршак. Лирика. Переводы. Санкт-Петербург, Лениздат, 1996.
Минута
Дмитрий Шостакович. Вокальные циклы для баса, том 1
Размышляя о музыке Дмитрия Шостаковича, нельзя не вспомнить время, в котором он жил, слишком уж сложной оказалась его эпоха. Творчество музыканта, ставшего символом ХХ века, неразрывно связано с судьбами его страны и его века. Подобно многим своим великим русским современникам, он мог описать свою жизнь словами от «» Анны Ахматовой «Введение » до ее знаменитой «».0003 Реквием : «Я был со своим народом тогда и там // Где, увы, был мой бедный народ».
В те невероятно сложные годы композитор сумел остаться честным артистом, и слово «честный» является ключом к восприятию его музыки. Ему удавалось оставаться честным, несмотря на бдительные глаза многочисленных «надзирателей». Его музыка — это исповедь, как его самого, так и его поколения. Писатель Илья Эренбург сказал после премьеры Восьмой симфонии Дмитрия Шостаковича: «Музыка имеет большое преимущество в том, что может рассказать все, ничего не упоминая». То, что для западных слушателей просто музыка, для советских слушателей и исполнителей было чем-то более важным. Хотя основные произведения композитора, заряженные невероятным воздействием, требуют от слушателей серьезных эмоциональных и интеллектуальных усилий, а на такое слушание способны не так уж многие, Шостакович все же был важен даже для тех, кто с трудом понимал его музыку или не понимал ее. совсем этого не знать. Для общества, жившего на одной шестой части земного шара, как иногда называли Советский Союз, композитор стал не только летописцем всех горестных или радостных событий, происходящих в стране, но и выразителем того самого времени, когда жила страна. через.
Писатель Илья Эренбург сказал после премьеры Восьмой симфонии Дмитрия Шостаковича: «Музыка имеет большое преимущество в том, что может рассказать все, ничего не упоминая». То, что для западных слушателей просто музыка, для советских слушателей и исполнителей было чем-то более важным. Хотя основные произведения композитора, заряженные невероятным воздействием, требуют от слушателей серьезных эмоциональных и интеллектуальных усилий, а на такое слушание способны не так уж многие, Шостакович все же был важен даже для тех, кто с трудом понимал его музыку или не понимал ее. совсем этого не знать. Для общества, жившего на одной шестой части земного шара, как иногда называли Советский Союз, композитор стал не только летописцем всех горестных или радостных событий, происходящих в стране, но и выразителем того самого времени, когда жила страна. через.
Вокальную музыку Шостакович сочинял на протяжении всей своей творческой жизни, Басни Крылова лишь усилия шестнадцатилетнего школьника, а последние вокальные циклы Сюита на слова Микеланджело Буонарроти и Четыре стихотворения капитана Лебядкина , были написаны летом 1974 года, за год до смерти автора. Следует отметить, что и его более ранние сочинения, и его романсы и песни 40-х и 50-х годов, со всеми присущими его гениальности откровениями, являются скорее «спутниками» его симфонических произведений (за исключением, однако, Из традиционной еврейской поэзии ). В отличие от вокальных циклов последних лет, оказавших непосредственное влияние на произведения Шостаковича других жанров и явившихся основополагающими вехами в творчестве композитора.
Следует отметить, что и его более ранние сочинения, и его романсы и песни 40-х и 50-х годов, со всеми присущими его гениальности откровениями, являются скорее «спутниками» его симфонических произведений (за исключением, однако, Из традиционной еврейской поэзии ). В отличие от вокальных циклов последних лет, оказавших непосредственное влияние на произведения Шостаковича других жанров и явившихся основополагающими вехами в творчестве композитора.
Шостакович был очень разнообразен в выборе текстов для своей вокальной музыки. Только два автора, Пушкин (что объясняется его уникальным положением в русской поэзии) и Долматовский, заставляли Шостаковича неоднократно обращаться к их материалу. Это могла быть и традиционная испанская лирика, и патриотические стихи Долматовского, и классическая английская поэзия, и даже читательская почта 9-го века.0003 Крокодил … Литературные интересы композитора кажутся безграничными. Но для Шостаковича основой вокального сочинения было прежде всего преобладание идеи, и с этой точки зрения всякий поэтический стиль будет второстепенным и подчиненным. Находясь в гуще разнообразных стилистических течений ХХ века, композитор был готов написать любой самый неожиданный текст, оставаясь верным себе даже в мелочах. В любой такой композиции всегда можно сказать подлинного Шостаковича.
Находясь в гуще разнообразных стилистических течений ХХ века, композитор был готов написать любой самый неожиданный текст, оставаясь верным себе даже в мелочах. В любой такой композиции всегда можно сказать подлинного Шостаковича.
Единственный вокальный цикл композитора, непосредственно относящийся к военному времени, Шесть романсов на стихи У. Рэли, Р. Бернса и У. Шекспира , создан в 1942 г. в Куйбышеве, куда Шостакович прибыл на борту военного самолета в качестве эвакуированных из блокадного Ленинграда. Именно в этом году Седьмая (Ленинградская) симфония, исполненная в блокадном городе, с триумфом прозвучала во всем мире. После нескольких исполнений в городах Сибири и Поволжья, вдали от театра военных действий, симфония была сыграна в Лондоне, в Нью-Йорке под руководством Тосканини и в Гетеборге, куда партитура была доставлена на военных кораблях в виде микрофильмов. Популярность Седьмой симфонии в то время достигла неслыханной для сочинения такого жанра степени. Имя Шостаковича стало символом Сопротивления, и даже в Советском Союзе ему прощали его «формалистические аберрации» конца 30-х годов — пока в неизвестности.
Имя Шостаковича стало символом Сопротивления, и даже в Советском Союзе ему прощали его «формалистические аберрации» конца 30-х годов — пока в неизвестности.
В атмосфере дружбы с антигитлеровскими союзниками обращение к поэзии английских авторов казалось вполне объяснимым, особенно в отношении Роберта Бернса, чья поэзия, восхваляющая простой народ, была популярна в Советском Союзе и считалась «идеологически правильной». Строки Бернса «Для того и для того наши труды неясны, и для того, чин — не что иное, как печать гинеи, Человек — это дар для того» были выучены наизусть советскими школьниками по-русски в уроки литературы и английского языка, на уроках английского языка.
В мае 1942 г. Шостакович, желая отпраздновать день рождения сына вокальным сочинением, обратился к книге переводов Бориса Пастернака и выбрал стихотворение У. Рэли с многозначительным названием «Сэр Уолтер Рэли своему сыну». 7 мая песня была написана сразу в окончательном варианте. Затем осенью Шостакович сочинил три песни на стихи Роберта Бернса (написанные «в один прием», это были шесть страниц на партитуре, очень аккуратно и точно пронумерованные, под общим названием «Из Роберта Бернса»), а затем дополнил цикл двух других стихотворений, Сонет Шекспира из того же сборника, что и произведение Роли, и забавная детская песенка «Поход короля», смысл которой в 1942 году был понятен всем.
Кульминацией цикла, без сомнения, является сонет Шекспира: текст произведения звучал для Пастернака и Шостаковича гораздо интимнее и современнее, чем может показаться на первый взгляд. Авторы запрещенных и осмеянных произведений, романа Доктор Живаго и оперы Леди Макбет Мценского района t, лучше всех знал значение «искусства, косноязычного властью, И глупости (врачебной), контролирующей мастерство, И простой правды, ошибочно названной простотой, И плененного доброго, сопровождающего капитана больного». Завершающий Королевский поход , вероятно, самая короткая военная сцена в мировой музыкальной литературе, озаряется яркой искоркой, но на мгновение мраком предыдущего Сонета .
Пять романсов на слова из журнала «Крокодил» написаны 1965 стали еще одним примером карикатуры в музыке композитора. Здесь Шостакович, написавший в молодости, в кипящие двадцатые годы столько подобных сочинений, в очередной раз вдоволь смеется над глупостью и пошлостью, как бы стряхивая с себя оцепенение, затянувшееся на десятилетия.
Юмористический журнал Крокодил на протяжении десятилетий своего выхода был вполне официальным рупором советской пропаганды. Некоторые пустяковые недостатки на пути к светлому коммунистическому будущему требовали критической оценки, и Krokodi l, чьим оружием были сатира и юмор, был создан именно для такой беспощадной критики. Журналу многое разрешалось. В какой-то мере он был единственным, кто осмеливался открыто говорить о грубости, пьянстве и прочих «мелких грехах» социалистического общества. Krokodi л был достаточно популярен у широкой публики. Ее читали в городском транспорте, ее анекдоты пересказывали коллегам по работе, а обрывки ее страниц всегда можно было найти возле пивных и в пригородных поездах.
Для своих песен Шостакович выбрал забавные письма, присланные читателями и опубликованные в журнале. Композитор даже пометил партитуру опуса датой и номером выпуска: «No. № 24 от 30 августа 1965 года». Вряд ли какой-либо перевод, даже самый точный, может передать обороты речи и мысли «простых рабочих»; даже на русском тексты писем звучат невероятно идиотски. Более того, сами ситуации, рассказанные читателями, вполне понятны лишь тем, кому довелось жить в ту же эпоху, что и композитор. Однако в музыкальном плане Шостакович так блестяще реализует свой замысел («…желание попробовать свои силы, а может быть, сделать что-то новое…»), образы так выразительны, а вокальные и фортепианные партии написаны так поразительно живо, заставляя использование крайних делений компаса и экстремальной динамики, позволяющих исполнителям проявить себя в полной мере, — что опус выходит далеко за рамки чисто музыкальной обработки смешных нелепостей, а музыка становится полномасштабным персонажем этого спектакля, действительно театральный.
Более того, сами ситуации, рассказанные читателями, вполне понятны лишь тем, кому довелось жить в ту же эпоху, что и композитор. Однако в музыкальном плане Шостакович так блестяще реализует свой замысел («…желание попробовать свои силы, а может быть, сделать что-то новое…»), образы так выразительны, а вокальные и фортепианные партии написаны так поразительно живо, заставляя использование крайних делений компаса и экстремальной динамики, позволяющих исполнителям проявить себя в полной мере, — что опус выходит далеко за рамки чисто музыкальной обработки смешных нелепостей, а музыка становится полномасштабным персонажем этого спектакля, действительно театральный.
Для упрощенного подхода к творчеству Шостаковича характерно прямое соотнесение трагических мотивов в его музыке с драматическими вехами русской истории. Эта мысль, однако, часто не выдерживает проверки фактами биографии композитора. Иногда свою самую мрачную музыку он сочинял во времена, которые, казалось бы, не предполагали такого настроения. И наоборот, яркость « Праздничной увертюры » (1954) вряд ли следует приписывать радости по поводу недавней (1953) смерти Сталина. Тем не менее выбор им стихов для цикла песен, посвященных 115-летию со дня смерти Пушкина, явно свидетельствует о самых мрачных впечатлениях последних лет сталинской эпохи. Никак иначе нельзя объяснить это столь несвойственное Пушкину, солнечному из всех русских поэтов, преобладание трагических, скорбных красок в композиции, уже отягощенной тревогой и депрессией. Четыре монолога на слова А. Пушкина написаны во время последнего акта грозного режима, который вот-вот должен был уйти, а отголоски эпох наиболее отчетливо видны в монологе В глубине сибирских копей . Это «антицарское» стихотворение Пушкина, которое все учили в школе по казенным хрестоматиям, совсем иначе воспринимается в контексте 1952 года: «Спадут тяжелые цепи, // Падут тюрьмы, и свобода // Встретят тебя радостно у входа // И твои братья вернут тебе меч.
И наоборот, яркость « Праздничной увертюры » (1954) вряд ли следует приписывать радости по поводу недавней (1953) смерти Сталина. Тем не менее выбор им стихов для цикла песен, посвященных 115-летию со дня смерти Пушкина, явно свидетельствует о самых мрачных впечатлениях последних лет сталинской эпохи. Никак иначе нельзя объяснить это столь несвойственное Пушкину, солнечному из всех русских поэтов, преобладание трагических, скорбных красок в композиции, уже отягощенной тревогой и депрессией. Четыре монолога на слова А. Пушкина написаны во время последнего акта грозного режима, который вот-вот должен был уйти, а отголоски эпох наиболее отчетливо видны в монологе В глубине сибирских копей . Это «антицарское» стихотворение Пушкина, которое все учили в школе по казенным хрестоматиям, совсем иначе воспринимается в контексте 1952 года: «Спадут тяжелые цепи, // Падут тюрьмы, и свобода // Встретят тебя радостно у входа // И твои братья вернут тебе меч.
Шостакович познакомился с Евгением Долматовским вскоре после войны, в купе поезда Москва–Ленинград. Поэт вернулся из сталинградской степи и с увлечением рассказывал о спасении лесов от суховеев, о чем в то время активно говорили в СССР. Шостакович попросил Долматовского написать несколько стихов, которые впоследствии легли в основу его оратории «Песнь леса », написанной в 1949 году. После этого они вместе работали над фильмом Падение Берлина , сочинил кантату «Солнце сияет над нашей Родиной», ряд песен и романсов. За «Песню леса» и саундтрек к фильму композитор был удостоен Государственной премии — высшей награды для советских деятелей культуры. Совместная работа привела к дружбе Шостаковича и Долматовского. Этот последний вспоминает: «Мы были молоды, энергичны… работа и жизнь доставляли удовольствие».
Поэт вернулся из сталинградской степи и с увлечением рассказывал о спасении лесов от суховеев, о чем в то время активно говорили в СССР. Шостакович попросил Долматовского написать несколько стихов, которые впоследствии легли в основу его оратории «Песнь леса », написанной в 1949 году. После этого они вместе работали над фильмом Падение Берлина , сочинил кантату «Солнце сияет над нашей Родиной», ряд песен и романсов. За «Песню леса» и саундтрек к фильму композитор был удостоен Государственной премии — высшей награды для советских деятелей культуры. Совместная работа привела к дружбе Шостаковича и Долматовского. Этот последний вспоминает: «Мы были молоды, энергичны… работа и жизнь доставляли удовольствие».
В страшные годы реакции конца 40-х — начала 50-х годов, когда музыка Шостаковича снова была запрещена постановлениями партии и правительства, одним из немногих оставшихся у композитора способов продолжать писать музыку и зарабатывать на жизнь было зарабатывание помпезные оратории и кантаты и саундтреки к официальным фильмам. Непретенциозная, но искренняя поэзия человека, который мальчиком читал свои стихи Маяковскому, прошедшего испытание гигантскими конструкциями, контуженного и раненого на войне и целиком состоявшего из тогдашней системы. — эта поэзия помогала Шостаковичу продолжать сочинять в те годы.
Непретенциозная, но искренняя поэзия человека, который мальчиком читал свои стихи Маяковскому, прошедшего испытание гигантскими конструкциями, контуженного и раненого на войне и целиком состоявшего из тогдашней системы. — эта поэзия помогала Шостаковичу продолжать сочинять в те годы.
В 1954 году Шостакович получил от Евгения Долматовского несколько лирических стихотворений о любви и дружбе — своего рода «рассказ» о чувствах, оставивших нежные воспоминания. Тема явно привлекала композитора; он не обращался к любовной лирике со времен своих песен на слова японских поэтов (1928—1932). Получился Пять песен на стихи Е. Долматовского , опус несколько необычный даже для характерной для Шостаковича 50-х тенденции упрощения музыкального языка. Это не только желание быть кратким или ясным, но даже избегать всего, что требует усилий при слушании. Композитор, кажется, с удовольствием сочетает простые песенные напевы с тонкими нюансами русской классики романтика . Четкие созвучия, запоминающиеся мелодии и почти классическая форма, использование легко узнаваемых вальсовых или маршевых интонаций — во всем обнаруживается желание автора (естественное или вынужденное обстоятельствами) быть понятным, быть «ближе к народу».
В 1956 году пятидесятилетний композитор неожиданно женился во второй раз. Его молодая жена, бывшая комсомолка, вскоре привыкла к мягкому характеру Шостаковича. Так что однажды она похвалила песни Соловьева-Седоя (самого популярного в массах автора песен) и добавила: «Было бы здорово, если бы ты, Митя, тоже написал пару таких песен».
Да ведь он и такие песни умел сочинять.
Роман Достоевского « Бесы » был впервые полностью опубликован в Советском Союзе только в 1957 году, в связи с послаблениями политической «оттепели», наступившей после смерти Сталина. «Бесы», написанные Достоевским с «дрожащими от ярости руками» (Салтыков-Щедрин), были осуждены советскими литературными критиками как «отягощенный ненавистью памфлет против русского освободительного движения 1860-х годов, против идей революции и социализма». .
Шостакович прочитал роман в 1974 году, и он наверняка произвел на него огромное впечатление. Слишком многое в Демоны перекликались с его собственными, частными пробами и размышлениями. Шостакович был заинтригован одним из самых отвратительных персонажей книги — капитаном Игнатом Лебядкиным, или, лучше сказать, его поэтическими опусами, которые сам капитан «безмерно уважал и ценил». Вот как описывает Достоевский Лебядкина: «…с багровым, несколько опухшим и обвисшим лицом, с вздрагивающими при каждом движении лица щеками, с маленькими, налитыми кровью, а иногда и совсем хитрыми глазками; у него были усы и бакенбарды».
Шостакович был заинтригован одним из самых отвратительных персонажей книги — капитаном Игнатом Лебядкиным, или, лучше сказать, его поэтическими опусами, которые сам капитан «безмерно уважал и ценил». Вот как описывает Достоевский Лебядкина: «…с багровым, несколько опухшим и обвисшим лицом, с вздрагивающими при каждом движении лица щеками, с маленькими, налитыми кровью, а иногда и совсем хитрыми глазками; у него были усы и бакенбарды».
Четыре стихотворения капитана Лебядкина , написанные в 1974 году, должны были стать последним вокальным циклом композитора. После «Шести стихотворений» Марины Цветаевой и «Сюиты на слова» Микеланджело Буонарроти , в которых говорилось о красоте, духе и радости творчества, композитор теперь выбирает не поэзию, а ее пародию. Стихи Лебядкина пропитаны глупостью, пошлостью, грубостью, ненавистью и самомнением. Характерное для композитора в последние годы его творчества стремление выговорить свои внутренние боли, мощная антисоциалистическая направленность Бесы , и новые творческие способности, присущие самим стилистическим особенностям стихов Достоевского, — все это побудило Шостаковича сочинить совершенно особый опус, где литература, идеология, сатира, пародия, театр, и музыка сливаются в совершенно новый Жанр вокального искусства.
В начале жизни: Моя встреча с Горьким
Поэт, пользующийся особым успехом и н его б ищет для детей , САМУИЛ МАРШАК был открыт Горьким. Он выучил английский язык в Лондоне в 1911 и там начались его блестящие переводы Блейка, W Ордсворта , и Бернса, а также английских баллад и детских стишков. Мы выбрали эту главу из его воспоминаний, которые сейчас печатаются в НОВЫЙ МИР.
Самуил Маршак
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ теплым августовским днем 1904 года в загородном доме Владимира Васильевича Стасова. Из года в год, более двадцати лет, он проводил летние месяцы в селе Старожиловке, близ Парголова. Такой же дом он снимал у местных жителей Безруковых. Просторный двухэтажный бревенчатый дом с застекленными верандами на обоих этажах всегда был открыт для друзей. Сколько было у нас там импровизированных концертов, сколько литературных чтений и семейных торжеств! Иногда во время домашних концертов Стасова за забором собирались толпы людей и слушали звуки, доносившиеся из открытых окон.
Именно в этот день ожидались гости, особенно дорогие Владимиру Васильевичу. Мы готовились к их приходу весело, изобретательно и кропотливо. Среди прочих празднеств Владимир Васильевич задумал устроить гостям особенный прием, комический, но в то же время торжественный. Скульптор Гинзбург нарисовал пером дачу Стасова на большом листе картона и оставил под рисунком место для текста. Передо мной была поставлена задача написать поздравление и сделать это в кратчайшие сроки, так как до прихода гостей нужно было скопировать текст и украсить его орнаментальными золотыми и алыми буквами.
Я быстро сочинил что-то вроде величественного почетного свитка в старинном стиле под заголовком «Три русских богатыря». По обыкновению русских былин, первое место я отдал Илье — не Муромцу, а Репину. За ним последовали новые имена не из былин: Максим Горький и Федор Великий Шаляпин.
Считая свою работу выполненной, я соскользнул с перил крыльца и пустился бежать по песчаной дорожке сада, радуясь августовскому солнцу и легкому ветерку, пронизанному ароматом смолы и вереска. Потом вдруг меня снова позвали в дом, на нижнюю веранду, и заставили работать. Оказалось, что я упустил из текста еще одного гостя — композитора Глазунова. Что я мог сделать? Переписывать все заново не было времени. Владимир Васильевич вовремя пришел мне на помощь. Он меня развеселил и посоветовал добавить всего одно слово в заголовок и одну строчку в текст.
Потом вдруг меня снова позвали в дом, на нижнюю веранду, и заставили работать. Оказалось, что я упустил из текста еще одного гостя — композитора Глазунова. Что я мог сделать? Переписывать все заново не было времени. Владимир Васильевич вовремя пришел мне на помощь. Он меня развеселил и посоветовал добавить всего одно слово в заголовок и одну строчку в текст.
Заголовок получился еще более необычным, чем был: «Трем русским богатырям и четвертому». А сам свиток теперь закрывался такими строками о Глазунове:
«Младший брат, но великий Герой — Александр — Светлый Константинович!»
Не было ничего удивительного в том, что я забыл в своем приветствии одного из наших самых знаменитых гостей. Это была встреча с Горьким, которой я ждал больше всего в тот день. Я уже не раз встречался с Репиным. Мне довелось видеть и Шаляпина, правда, только издалека и в том особом гламурном мире, каким был для меня театр. Но имя Горького значило для меня больше, чем имена других гостей, которые были старше его по возрасту и славе. Его слава тоже была несколько особого рода. Не только то, что он писал, но и он сам вызывал всеобщее любопытство и то ли горячее восхищение, то ли столь же страстную ненависть.
Его слава тоже была несколько особого рода. Не только то, что он писал, но и он сам вызывал всеобщее любопытство и то ли горячее восхищение, то ли столь же страстную ненависть.
Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда симпатизировавший всему сильному и оригинальному, не сразу проникся к нему симпатией. Сначала он говорил о Горьком сдержанно и с некоторым недоверием. Это неудивительно. Это были люди разных эпох. Старому Стасову, который был на четыре года старше Толстого, пришлось выполнить большую и сложную задачу, чтобы оценить стиль и направление Горького. Но вскоре он стал самым заядлым читателем, а потом и самым заядлым поклонником горьковской прозы.
Читая маленькие томики в зеленых переплетах, он, казалось, снова помолодел. Он угощал всех, кто к нему приходил, независимо от того, хорошо он его знал или нет, отрывками из Горького и радостно говорил: «Какой могучий человек! Какой оригинальный талант! Ведь это первоклассный поэт и мыслитель уровня Байрона и Виктора Гюго».
Я слушал Владимира Васильевича и радовался тому, что, хотя ему и было восемьдесят, в спорах о Горьком он был заодно с молодежью. А молодежи Горький казался самым современным из всех современных писателей. Для моего поколения его голос был голосом времени, не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
И теперь этот человек, о котором мы столько думали и спорили, просто войдет сюда, поднимется по этим ступенькам и будет говорить, шутить и слушать музыку вместе со всеми нами. И, может быть, мне удастся заметить в нем то, чего я не нашел ни в его книгах, ни в разговорах о нем.
трое сошлись — Репин, Шаляпин и Горький. Колеса финских двуколок загрохотали к воротам стасовской дачи, ворота заскрипели, и в сад, весело беседуя, прошли не трое русских богатырей, а трое самых обыкновенных и в то же время самых необыкновенных люди.
Шуточный церемониал приветствия был выполнен до мелочей. Громко, если не ошибаюсь, на двух роялях играл флориш. Свиток был поднят. Чтение приветствия выпало на долю меня, самого младшего из гостей, подростка в школьной форме с блестящими пуговицами и вырезанными буквами на пряжке ремня.
Чтение приветствия выпало на долю меня, самого младшего из гостей, подростка в школьной форме с блестящими пуговицами и вырезанными буквами на пряжке ремня.
Мне сделали комплимент; моя рука дрожала; Меня обняли. Только Горький не сказал ни слова. Вообще он сначала был не слишком разговорчив и лишь постепенно вступал в разговор.
Я смотрел на всех троих, не опуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели весьма нарядно, особенно Шаляпин. Он был одет в легкий костюм, напоминавший залитый солнцем день. Летний костюм сидел на этом красивом, большом, статном мужчине шикарно и хорошо.
Во внешности Горького не было и тени подтянутости. Он был одет как какой-нибудь железнодорожный мастер или начальник строительной бригады. Его темная куртка с воротником-стойкой была наглухо застегнута; штаны его были заправлены в голенища мягких русских сапог. Но все его тело, худощавое и стройное, несмотря на небольшую сутулость, и его маленькая, хорошо посаженная голова с густыми крыльями каштановых волос, падающими на виски, и серо-голубые глаза с их пристальным взглядом и длинными ресницы, затенявшие их, давали ощущение опрятности, ясности цели и сдержанной силы, придававшей каждому движению человека цель, достоинство и даже изящество. Он ничего не потерял по сравнению с великолепным Шаляпиным; и Репин в праздничном светло-сером костюме казался рядом с Горьким довольно прозаичным.
Он ничего не потерял по сравнению с великолепным Шаляпиным; и Репин в праздничном светло-сером костюме казался рядом с Горьким довольно прозаичным.
Как это часто бывало в доме Стасовых, весь вечер был наполнен песнями, музыкой и «великими эпосами странствующих менестрелей», как шутливо выразился Владимир Васильевич. И я все время невольно поглядывал на Горького, прислушиваясь к его несколько приглушенному акценту с ударением на «о», отмечая его очень особенную улыбку, порой такую озорную и задорную, как будто он проворачивал какую-то забавная мальчишеская шалость.
Он был совсем не тем человеком, которого мы знали по его фотографиям. Я ожидал увидеть задумчивого и меланхолического длинноволосого юношу в русской крестьянской кофте, но тут передо мной оказался зрелый, самоуверенный мужчина. Все в нем было для меня неожиданностью: его огромность, его приглушенный бас, спокойная, деловитая манера, в которой он говорил о современной литературе, о новом издательстве, которым он руководил.
В каждый мой приезд на дачу в Старожиловку обязательно случалось что-то новое и интересное. Но на моей памяти еще не было такого дня, как этот. Владимир Васильевич был оживлен и приветлив, как никогда прежде, и, вероятно, от этого все чувствовали себя удивительно свободно и легко.
Тяжеловесный и весьма серьезный на вид Глазунов без тени улыбки рассказал нам за обедом невероятную историю о каком-то пьянице на улице, принявшем его за конку и даже пытавшемся взобраться на внешнее сиденье машина.
Скульптор Гинзбург, маленький, сморщенный и необычайно подвижный человек, изображал за работой местечкового портного, дремавшего с поводьями извозчика, ссору двух соседок-старух из-за яйца, которое снесла курица в неправильном дворе. Я помню, что для этой последней маленькой сцены ему понадобился платок, чтобы скрыть бороду и лысину, придававшую еще большую высоту его и без того высокому лбу.
Весь спектакль он исполнил с таким юмором и изяществом, с такой тонкой наблюдательностью, что каждый жест его ручек, каждое движение бровей и полуопущенных век оставались запечатленными в памяти зрителя. По рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно подражал ему, то морщась лбом, то шевеля губами.
По рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно подражал ему, то морщась лбом, то шевеля губами.
И тут запел Шаляпин. Он пел без остатка, выбирая песни, особенно любимые Владимиром Васильевичем. Среди произведений, которые он пел, были величественная баллада В двенадцать часов полуночи, строгая по-военному, но в то же время полная таинственности; и залихватский, отчаянный и зловещий танец Трепак Мусоргского; и сразу после этого прерывистая скороговорка Семинарист , повторяющая серию исключений из правил латинской грамматики без какой-либо реальной причины, те самые исключения, которые я должен был выучить наизусть в школе:
“Panis , piscis , crinis, finis ,
Ignis , lapis, pulvis, linisT
This little cramming session was gradually transformed into the unsophisticated, bitter, though, at the same время, шутливое причитание заросшего семинариста, жалующегося на свою злополучную жизнь:
«И вот батюшка меня дернул За шкирку, за шею! . .
.
И это был тот самый голос, поющий эти слова, только что прозвучавший звоном медного колокола, повелевшего повиноваться могучему, размеренному шагу призрачных войск, голос, звеневший яростью метели, поющей свою колдовство и заставить беднягу-пьяницу танцевать до тех пор, пока он не упадет, а затем усыпить его навеки.
Быть может, именно в тот вечер я впервые ощутил не только силу музыки, но и великую силу слова, когда оно полностью понято до конца и когда оно стоит на своем месте, поддерживаемое всей широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа. Стоит ли удивляться, что мое сердце почти перестало биться, когда после пения Шаляпина Владимир Васильевич вдруг предложил мне прочитать свои стихи?
Тем не менее, я читал. Не помню какие именно — с тех пор прошло более пятидесяти лет. Мне кажется, что это был отрывок из стихотворения Мицкевича, которое я перевел, и, кроме того, лирика. Только одно осталось в моей памяти резко. С первой прочитанной строчки я ощутил серьезное, доброе внимание, которое сразу придало мне чувство уверенности и дало возможность восстановить самообладание.
Когда я закончил, Горький сел рядом со мной, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книги люблю, откуда родом и где учусь. И вдруг я почувствовал себя удивительно легко и просто заговорил с этим человеком, который еще вчера был для меня только именем и книгой. Он слушал с самым пристальным вниманием, чуть наклонившись ко мне, мою краткую историю. Можно было подумать, что для него не было ничего более интересного, чем жизнь этого мальчика, на которого он только что впервые взглянул.
Но тут наш разговор прервал Владимир Васильевич. Обняв меня за плечо своей большой рукой, он стал рассказывать Горькому, что в последнее время я часто болею и что, кажется, эта область мне вредна. Горький задумался на минуту, а потом спросил меня просто: «Хотел бы ты жить в Ялте? Мы с Федором устроим это для вас. Верно, Федор?
«Немедленно устроим!» — весело крикнул Шаляпин поверх голов окружавших его людей.
Прошел месяц или два. И вдруг к нам через московские ворота, через Путиловский мост пришли три телеграммы: одна на имя моего отца и две на мое. Насколько я помню, это были первые телеграммы, которые я получил в своей жизни. Оба были из Горького в Ялте. Я до сих пор помню текст телеграмм. Один состоял всего из нескольких слов: «Вас приняли в Ялтинскую гимназию. Подробности следуют. Пешков [настоящая фамилия Горького].
Насколько я помню, это были первые телеграммы, которые я получил в своей жизни. Оба были из Горького в Ялте. Я до сих пор помню текст телеграмм. Один состоял всего из нескольких слов: «Вас приняли в Ялтинскую гимназию. Подробности следуют. Пешков [настоящая фамилия Горького].
Второй был немного длиннее: «Приходи. Остановитесь в Ялте на углу Морской и Аутской в даче Ширяева. Спросите Катерину Павловну Пешкову, мою жену. Пешков».
Телеграмма, отправленная моему отцу, была подписана «Директор Готлиб». В нем были те же новости, но в более официальной форме.
Я уже был знаком с именем директора. Не так давно этот крупный дородный мужчина с волнистой шевелюрой преподавал в нашей школе латынь.
И так все решилось. Мне оставалось только собрать одежду и книги и отправиться в новые странствия к Черному морю.
В поезде Я почти не отходил от окна. Северные леса уступили место полям и перелескам Средней России. В белокаменном Севастополе меня впервые ослепило южное солнце и голубизна моря, расщепившего свои лучи. Еще несколько часов на пароходе — настоящем морском пароходе, с двумя палубами, блестящими свежей краской и медью, — и вот передо мной Ялта: полукольцо набережной, многоярусный город, взбирающийся вверх по склону холмов, ржавые усики виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с головы до ног в темные плащи.
Еще несколько часов на пароходе — настоящем морском пароходе, с двумя палубами, блестящими свежей краской и медью, — и вот передо мной Ялта: полукольцо набережной, многоярусный город, взбирающийся вверх по склону холмов, ржавые усики виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с головы до ног в темные плащи.
Объявив о своем прибытии хриплым, невыносимым, пронзительным свистом, корабль сбавил ход и, трясясь всем телом, начал двигаться к пристани боком. Гребные винты корабля вспарывали зеркальную гладь моря, словно выворачивая ее наизнанку. Теперь вместо радужной синевы между бортом корабля и причалом клубилась белая рваная пена, переливаясь на солнце разноцветными искрами.
Вместе с разношерстной толпой путешественников я спустился по сходням на пристань и с легким багажом в руках прошел сначала по набережной, а затем по каменным дорожкам, ведущим наверх. Все здесь было для меня ново, неожиданно; как будто я был не в настоящем городе, населенном, серьезном, деловитом, а где-то посреди декорации, праздничной, но временной. Все здесь было так не похоже ни на что, виденное мной до сих пор, — ажурные железные решетки, покрытые плющом, уже забрызганные малиновой краской осени; белые дачи с широкими балконами; ухоженные сады с их густыми, почти металлическими листьями лавра. И, наконец, я приехал на дачу Ширяева на углу Морской и Аутской.
Все здесь было так не похоже ни на что, виденное мной до сих пор, — ажурные железные решетки, покрытые плющом, уже забрызганные малиновой краской осени; белые дачи с широкими балконами; ухоженные сады с их густыми, почти металлическими листьями лавра. И, наконец, я приехал на дачу Ширяева на углу Морской и Аутской.
Аккуратно открыв железную калитку, я оказался перед домом, построенным из натурального камня посреди поляны, окруженной тщательно подстриженными густыми кустами с крошечными жесткими листьями.
Я поднялся по лестнице и на пороге встретил молодую женщину, легкую, энергичную, с гладко причесанными, но еще пушистыми, темными, каштанового цвета волосами. Лицо ее было суровым, но губы слегка коснулись умоляющей, милой, дружелюбной улыбки.
Взяв меня за руку своей маленькой, но сильной рукой, она повела меня в дом, пропитанный солнцем, морским бризом и сухим ароматом южного сада. Я последовал за ней, еще не догадываясь, что эти несколько шагов приведут меня не только из одной комнаты в другую, но и в другой этап моей жизни — из отрочества в юность.

 Послышались странные стуки в дверь, которые сильно напугали…
Послышались странные стуки в дверь, которые сильно напугали… (Илл. Ю.Васнецова, Ладушки, изд. Росмэн, 2002)
(Илл. Ю.Васнецова, Ладушки, изд. Росмэн, 2002)